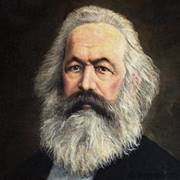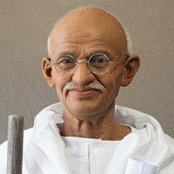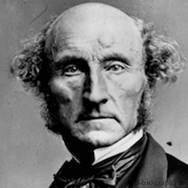Главная
Персоналии
М
|
Мабли
Габриэль Бонно де |
МАБЛИ (Mably) Габриель Бонно де (род. 14 марта 1709, Гренобль –
ум. 23 апр. 1785, Париж) – франц. историк, писатель; брат Кондильяка.
Общественная жизнь, согласно Мабли, первоначально была основана и на
коллективном владении землей. Этот строй был разрушен в результате частной
собственности, ставшей осн. источником всех несчастий человечества.
Единственный способ восстановить «систему общности» имуществ – уменьшить
имущественные неравенства через ограничения потребностей и пресечения
роскоши. Коммунизм Мабли – аскетический коммунизм. Народ – носитель верховной
власти, и он имеет право изменять существующее правление. Мабли оправдывал
революции и гражданские войны, если они направлены против насилия и
деспотизма. Осн. произв.: «Избр. произв.», М.-Л., 1950; «Начальные основания
нравоучения», ч. 1 – 3, М., 1803; «О изучении истории», ч. 1-3, СПБ, 1812. |
|
Мадхва |
МАДХВА (санскр. Madhva, др. имя —
Анандатиртха) — основатель двайта-веданты («дуалистическая веданта») и одной
из четырех признанных вишнуитеких традиций бхакти — брахма-сампрадая, —
писавший и проповедовавший в 13—14 вв. Сохранилось несколько его
«агиографий», одна из которых называется «Мадхва-виджая» («Триумф Мадхвы»). М. приписывается около 40 сочинений, из
которых наиболее значительны комментарии к «Брахма-сутрам» («Анувьякхьяна»),
«Бхагавадгите» и тем же основным Упанишадам, которые истолковывал Шанка-ра, частичные
комментарии к Ригведе, «Махабхарате», «Бхагавата-пуране» и 10 филос.
трактатов. Строя свое учение на радикальной
оппозиции доктрине Шанкары (коего он называл «переодетым буддистом») и
частично учению Рамануджи, М., как и последний, отождествляет Брахмана с
Вишну-Нарая-ной, наделенным всеми совершенствами, однако акцентирует его
полное отличие от мироздания. Абсолют М. — созидатель, хранитель и
разрушитель мира, ответственный за всякое владычество, познание, препятствия,
закабаление и «освобождение» и вместе с тем образцовый семьянин — супруг
богини Лакшми и отец демиурга Брахмы и «спасителя» Ваю. М. принадлежит
немалый вклад в эпистемологию, прежде всего в исследование самодостоверности
истинного знания и в разработку концепции источников знания (прамана), а
также в логику, в т.ч. подробный анализ механизма выводного знания (концепция
вьяпти). М. работал с шестиричной категориальной системой вайшешиков
(падартхи), восполняя ее категориями «квалифицируемое», «целое» и
заимствованными из мимансы «потенцией» и «сходством». М., учение которого
можно было бы назвать «философией отношений» (в адвайта-веданте Шанкары
реляции в конечном счете считались иллюзорными), различал пять основных
онтологических дистинкций. Это различия: 1) между Божеством и индивидуальными
душами (джива); 2) между Божеством и материей (джада); 3) между душами и
материей; 4) между отдельными душами; 5) между отдельными фракциями материи.
Поэтому обычный дуализм души и тела составляет лишь один из пунктов в системе
дуалистических оппозиций онтологии М. Будучи отличной от Божества, душа тем
не менее является его отражением. Подлинное знание об этом достигается
соответствующим изучением «писаний», после чего адепт созревает для служения
Божеству, которое отвечает ему дарами, соразмерными возможностям реципиента.
«Освобождение» мыслится не как адвайтистское слияние иллюзорной
индивидуальной души с Брахманом, но как действительное и вечное сопребывание
с Вишну в его «обители». Все существа делятся на три класса: предназначенные
для «освобождения», для адов (прежде всего демоны и последователи Шанкары) и
для пребывания в сансаре, и это фаталистическое учение логично следует из
полной ответственности Божества за все, что происходит с ними. Труды М. комментировались Джаятиртхой
(14 в.) и Вьясатиртхой (16 в.), которые «достроили» основной корпус текстов
двайты, продолжая полемизировать с адвайтистами. Специфическая
«неуживчивость» М. нашла свое продолжение в его общине, которая разделилась
на множество подсект, споривших преимущественно по «юрисдикционным» вопросам. Dasgupta S. A
History of Indian Philosophy. Vol. IV. Indian Pluralism. Cambridge, 1922;
Glasenapp H. von. Madhvas Philosophie der Vishnu-Glaubens. Bonn, 1923; Siauve
S. La doctrine de Madhva, Dvaita-Vedanta. Pondichery, 1968. |
|
Майер Генрих |
МАЙЕР (Maier) Генрих (род. 5 февр. 1867, Хейденгейм, Вюртемберг –
ум. 28 нояб. 1933, Берлин) – нем. философ; профессор с 1922, особо
подчеркивал чувственные и волевые моменты, участвующие во всяком мышлении, и
набросал обширную систему критического реализма. Осн. произв.: «Syllogistik des Aristoteles», 3 Bde., 1896-1900; «Sokrates»,
1913; «Philosophie der Wirklichkeit», 1926-1935). |
|
Майков
Валериан Николаевич |
МАЙКОВ Валериан Николаевич (28.08(9. 09) 1823, Москва — 15(27).07.1847,
с. Новое Петергофского у. Петербургской губ.) — литературный критик, публицист,
экономист, философ. Сын художника, участника Отечественной войны 1812 г.
Окончил юридический ф-т Петербургского ун-та. Путешествовал за границей.
Посещал "пятницы" Буташевича-Петрашевского. Вместе с братом
Аполлоном, поэтом, организовал собственный литературно-художественный кружок.
В 1846 г. после Белинского возглавил критический отдел в "Отечественных
записках". Современники считали М. "новоприходящим талантом".
Писал статьи по вопросам политической экономии, литературной критики,
философии, одним из первых выступил против идеологов славянофильства. В литературно-критических
статьях поддерживал молодого Достоевского, А. Н. Плещеева, М. Е.
Салтыкова-Щедрина. Пропагандировал художественно-публицистические и
философские работы Герцена. Принимал участие в создании коллективного труда петрашевцев
— "Карманного словаря иностранных слов, вошедших в состав русского
языка". Мечтал о "философии
общества", лишенной крайностей идеалистических спекуляций нем.
классической философии, эмпиризма англ. политэкономии и фр. утопического
социализма. Полемизировал с Белинским по поводу соотношения национального и
общечеловеческого в литературе. Считал себя космополитом — "гражданином
мира", отмежевываясь от тех, кто "не имеет сочувствия к человечеству
и частям его". В статьях "Карманного словаря" "Идеализм"
и "Материализм", будучи антропологическим материалистом, М. считал,
что ум, воля, знание — основа научного понимания мира и преобразования
действительности. В статьях "Мистицизм" и "Неоплатонизм",
используя "Письма об изучении природы" Герцена, он рассматривал мистицизм
и религию как "величайшее заблуждение" человечества, препятствующее
развитию науки. Специально занимался проблемами теории познания, писал о
соотношении анализа и синтеза как главных его методов, подчеркивал роль
синтеза, противопоставлял его религиозному априоризму. В неопубликованной по
цензурным соображениям статье "Карманного словаря"
"Аномалия" в духе зап. утопического социализма М. писал о
неестественном состоянии совр. ему об-ва, о нарушенном единстве человека и
природы, о необходимости удовлетворения потребностей каждого "при
естественном порядке вещей". Резко осуждал государство, где миллионы
страдают, называл его "аномалией", выражал солидарность с
"людьми мыслящими", т. е. с социалистами. М. был противником
уравнительно-коммунистической тенденции. Не разделяя упований петрашевцев на общину,
выступал за развитие промышленности. М. высоко ценили Чернышевекий,
Добролюбов, И. С. Тургенев. В возрасте 23 лет М. утонул. Соч.: Критические опыты
(1845—1847). Спб., 1891; Соч.: В 2 т. Киев, 1901; Литературная критика. Л., 1985. Петрашевцы об атеизме, религии,
церкви. М., 1986. С. 139—148; Аномалия // Отечественная
философия: опыт, проблемы, ориентиры исследования. Вып. 1. XIX век. М., 1989. С. 31-34. Лит.: Плеханов Г. В. Виссарион
Белинский и Валериан Майков // Соч. М.; Л., 1926. Т. 23. С. 223—260; Манн Ю.
В. Валериан Майков // Вопросы литературы. 1963. № 11. С. 103—123; Осетров Е.
И. Кем же был Валериан Майков? // Познание России. М., 1974. С. 178—203. |
|
Маймон
Соломон |
МАЙМОН (Maimon) Соломон (род. 1753, Несвиж, Литва – ум. 22 нояб.
1800, Нидер-Зигерсдорф, Силезия) – евр. философ; в Берлине пользовался
покровительством Моисея Мендельсона. Своей остроумной критикой Канта он
подготовил то понимание Канта, которое мы видим у Германа Когена и более
позднего неокантианства. Осн. работы: «Versuch ьber die
Transzendentalphilosophie», 1790; «Versuch einer neuen Logik oder Theorie des Denkens», 1794; «Kritische
Untersuchungen ьber den menschlichen Geist», 1797; «Autobiographie», hrsg.
von. K. Ph. Moritz, 2 Bde., 1792
(частично есть в рус. пер., см. «Еврейская библиотека», тт. I -II, СПБ,
1871-1872). |
|
Маймонид |
МАЙМОНИД
(Maimonides), настоящее имя
Моше бен Маймон (род. 30 марта 1135, Кордова – ум. 13 дек. 1204, Фустат, близ
Каира, где жил с 1165) – евр. врач, философ и теолог; величайший авторитет
среди раввинов эпохи средневековья. Маймонид родился в семье талмудиста в г.
Кордове, в 1165 покинул Испанию и эмигрировал в Палестину, затем осел в
Египте. Жил в Каире и
был врачом у египетского султана Сала-эд-Дина. Прославился тем, что
упорядочил труднодоступные, труднопонимаемые до того предания Талмуда, дав
толкование содержащимся там понятиям (см. также Еврейская философия). Согласно Маймониду, законы евр. религии
содержат высшие принципы всей истины и как раз поэтому они должны быть строго
рационально обоснованы. Этим учением он вызвал гнев и упреки в атеизме со
стороны евр. (и ислам.) ортодоксии. Труды М., пронизанные духом учения
Аристотеля, подразделяются на три части. Первая из них посвящена проблемам
библейского антропоморфизма, атрибутам Бога, представлению и критике калама;
во второй обсуждаются доказательство существования Бога, материя и форма,
сотворение мира и его будущее; в третьей части затрагиваются проблемы
провидения, зла, предвидения и свободы воли, телеологии и рациональности
наставлений Торы. По М., евр. религия содержит высшие принципы всякой истины,
и именно поэтому принципы данной религии должны быть рационально обоснованы.
Это положение вызывало резкие возражения со стороны евр. ортодоксии. Основной
труд М. «Dalalat al-Hairin» («More nebuchim» — «Руководство сомневающихся»),
написанный на араб. языке ок. 1190 и переведенный на др.-евр. язык ок. 1200,
оказал существенное влияние не только на последующую евр. философию и
теологическую мысль, но и на ведущих представителей схоластической философии
13 в. и прежде всего на Фому Аквинского и Альберта Магнуса. Под известным
воздействием М. был позднее Б. Спиноза. В
1935 избр. соч. Маймонида были изданы Глатцером на евр. языке. В этом трактате он разрабатывает
органистическую концепцию, считая, что Вселенная в своей совокупности - это
не что иное, как единый индивидуум. Он отстаивал точку зрения тождества
микро- и макрокосмоса и проводил аналогию между животным миром и миром,
который окружает его. Эта концепция сочетается у Маймонида с креационистскими
представлениями, согласно которым Вселенная не существовала вечно, а была
создана Богом. Творение Бога продолжалось шесть дней, в течение которых все
большее значение стали приобретать естественные законы. С седьмого дня
прекратилось божественное вмешательство во Вселенную, и она стала развиваться
по естественным законам. В этом проявилась деистическая позиция Маймонида,
однако в противоречие с этим Маймонид признает существование божественного
провидения, которое вмешивается даже в самые незначительные события нашего
мира. Правда, Маймонид оговаривается, что божественное провидение - это такая
тайна, которая не подвластна человеческим способностям. Маймонид стоял на позициях
примирения философии и религии. Он исходил из философии Аристотеля как из
главного источника. Он принимал основные положения Торы (главной части
Ветхого Завета) и доказывал, что они полностью согласуются с философией
Аристотеля. Маймонид полагает, что противоречия, которые могут возникнуть между
положениями Аристотеля и текстами Священного писания, обусловлены буквальным
толкованием вторых; если же их толковать аллегорически, то все согласуется. В
Священном писании, по мнению Маймонида, зафиксированы все истины
аристотелизма. Маймонид придерживался позиций
профетизма и полагал, что особо талантливые люди могут пророчествовать. Но
даже у пророков великие истины появляются как вспышки молнии. Поэтому только
пророкам были открыты все философские истины, часть из них нашла отражение в
Священном писании. А те истины, которые не попали в Священное писание, были
утеряны, отсюда и возникает противоречие между Священным писанием и
Аристотелем. Маймонид - значительная фигура
своего времени; велики его заслуги как в распространении аристотелизма, так и
в развитии средневековой схоластической философии. Он поставил многие
проблемы, господствующие в XIII в. в западной философии, и его исследования в
отношении веры и философии, разума и откровения способствовали в значительной
степени росту и развитию этой проблематики в течение почти двух столетий
после его смерти. Moses ben
Maimon, sein Leben, seine Werke und sein Einfluss. Leipzig, 1908—1914. Bd 1 —
2; Silver D.J. Maimonidean Criticism and Maimonidian Controversy. 1180—1240.
Leiden, 1965; Zac S. Maimonide. Paris, 1965. |
|
Майоров
Геннадий Георгиевич |
МАЙОРОВ Геннадий Георгиевич (р. 1941) —
специалист в области истории философии и истории культуры. Окончил филос.
факультет МГУ (1965), аспирантуру кафедры истории зарубежной философии
(1968). С того времени работает на этой кафедре. Доктор филос. наук (1983),
проф. (1988). В своих ранних работах М. исследует
философию Г.В. Лейбница, давая ее детальную логическую реконструкцию, устанавливая
ее связь с предшествующей традицией и с деятельностью Лейбница в области
конкретных наук. М. показывает, что методология и метафизика Лейбница явились
наивысшим достижением филос. мысли 17 в. и что важнейшие научные открытия
Лейбница во многом были обязаны творческой мощи его идеализма (такая
трактовка в условиях тотальной диктатуры марксизма-ленинизма того времени
была беспрецедентной). В последующий период М. мнимается преимущественно
средневековой и антич. философией. В монографии, посвященной патристике, он
(впервые в России) воссоздает историю развития христианской филос. мысли в
продолжение первых шести столетий ее существования. Выявляя специфику
средневекового «способа философствования» и выделяя в нем такие черты, как
ретроспективность, экзегетизм, дидактизм и культ авторитета, М. показывает,
что филос. воззрения отцов церкви и особенно Августина выступают в качестве
«иконографического» образца, на который ориентирована средневековая
схоластика, хотя этот образец воспринимается ею чаще всего как уже
деформированный логикой А.М.С. Боэция и лишенный свойственного патристике
духа свободы и новаторства. В др. сочинениях этого периода М. прослеживает
развитие идеи Абсолюта в антич. и раннехристианской философии, анализирует
филос. взгляды Цицерона и Боэция, особенности средневековой этики, исследует
происхождение арабо-мусульманского перипатетизма и т.д. С нач. 1990-х гг. М. занимается также
проблемами происхождения и определения сущности философии. Отвергая
мифогенную и гносеогенную теории ее происхождения, М. показывает, что идея
философии возникает у греков (и только у греков) как результат развития
критического мышления и осознания недостижимости для человека полноты
мудрости (софиогенная теория). Исходя из этого, высказывается идея, что историю
собственно философии нужно начинать не с Фалеса, а с Пифагора. Вопрос о том,
что такое философия, М. решает методом редукции всех исторически
существовавших способов ее понимания к трем типам: софийному (философия как
духовное влечение к мудрости, т.е. к полноте истины), эпистемическому
(философия как наука) и технематическому (философия как искусство), признавая
аутентичным только со-фийное понимание. М. известен как издатель классиков
мировой философии: в его переводах с лат. языка были опубликованы ранее не
издававшиеся в России сочинения Дж. Беркли, Лейбница, Боэция и др. Философия Лейбница и ее новейшие
западные интерпретации // Вопросы философии. 1968. № 10; Методологические
принципы философии Лейбница // Историко-философский сборник. М., 1968; Проблема
достоверности знания в философии Лейбница // Вопросы философии. 1969. № 4;
Теоретическая философия Готфрида В. Лейбница. М., 1973; Формирование
средневековой философии (латинская патристика). М., 1979 (пер. на серб.-хорв.
яз. Белград, 1982; на болг. яз. София, 1987); Северин Боэций и его роль в
истории западноевропейской культуры // Вопросы философии. 1981. № 4; Лейбниц
как философ науки // Лейбниц ГВ. Соч.: В 4 т. М., 1983. Т. 3; Образ Катона
Старшего в диалогах Цицерона // Античная культура и современная наука. М.,
1985; Цицерон как философ // Цицерон. Философские трактаты. М., 1985; Этика в
средние века. М., 1986; Цицерон и античная философия религии. М., 1989; В
поисках нравственного Абсолюта: античность и Боэций. М., 1990; Судьба и дело
Боэция // Боэций. Утешение философией и другие трактаты. М., 1990; Роль
Софии-Мудрости в истории происхождения философии // Логос. 1991. № 2; Восток
и Запад в Европе // Диалог цивилизаций: Восток — Запад. М., 1994; София,
эпистема, технема. Размышления о способах понимания философии в ходе истории
// Вестник МГУ. Сер. «Философия». 2000. № 3; Das Problem der Erkenntnisgewissheit
in der Philosophie von G.W. Leibniz // Studien zur Geschichte der westlichen
Philosophie. Frankfurt am Main, 1986. |
|
Мак-Дугалл
Уильям |
МАК-ДУГАЛЛ (McDougall) Уильям (род. 22 июня 1871,
Ланкашир, Англия – ум. 28 нояб. 1938, Дарем, США) – англоамер. социолог и
психолог; с 1927 – профессор в Дьюк-ун-те (Северная Каролина). Пытался
применить антиматериалистические и психологические направления мысли к
общественным наукам. Является автором «гормической» концепции, согласно
которой инстинктивное стремление к цели изначально заложено в природе живого.
Исходя из этой теории, он объяснял социальное поведение людей, отстаивая
превосходство «нордической расы». Пытался доказать, что приобретенные
признаки передаются по наследству. Выдвинул ряд психофизических гипотез, в
частности о торможении как «дренаже», вызывающем отток нервной энергии. |
|
Макиавелли
Николо |
МАКИАВЕЛЛИ (Machiavelli) Никколо (род. 3 мая 1469,
Флоренция – ум. 22 июня 1527, там же) – итал. политический деятель и историк,
один из первых идеологов эпохи Ренессанса, которые излагали новые воззрения
на развитие общества и государства. Известен как автор «Discorsi sopra la prima
decade di Tito Livio»
(1531; «Государь и рассуждения на первую декаду Тита Ливия», СПБ,
1869, или «Князь», см. «Сочинения», «Academia», 1934). В этом соч. он под влиянием впечатления от
произв. Ливия разрабатывает правила политического поведения и превозносит
этику и мощь гордой дохрист. Римской империи. Известна и др. его работа – «II principe» (1532), – где он характеризует самостоятельность,
величие и мощь государства как идеал, для достижения которого политики должны
использовать соответствующие средства, не думая о моральной стороне своих
поступков и о гражданской свободе (см. Государственный
интерес). Отсюда термин «макиавеллизм» для определения беззастенчивой
политики, которая добивается своих целей, пренебрегая нормами морали. В этих произведениях
«Рассуждения на первую декаду Тита Ливия» и «Государь» Макиавелли стремился
обосновать новый подход к пониманию государства и государственной
деятельности с. позиций этической природы человека. Он занимал ряд
государственных постов во Флоренции. Большинство своих произведений написал
после ареста в период высылки в свое поместье, когда в 1512 г. свершилась
реставрация Медичи, противником которых он был. Это был человек действия,
говоривший: «Сначала жить, потом философствовать». В своих произведениях Макиавелли
представил развернутую концепцию человека. Прежде всего, он считал, что
человеком движет личный интерес, проявления которого чрезвычайно
разнообразны, в том числе и стремление сохранить свое имущество,
собственность. Он писал в «Государе»: «Люди скорее простят смерть отца, чем
потерю имущества». Таким образом, Макиавелли описал
принципы, определяющие природу человека, сущность которой состоит в основном
в эгоизме. Примеры для своей концепции, он брал из окружающей жизни. Исходя из этой этической
доктрины Макиавелли строит свою концепцию государственной организации,
которая, по его замыслу, должна противодействовать человеческому эгоизму,
осуществляя государственное насилие. Макиавелли выступал активным противником
той созерцательности, которая была характерна для Средневековья, и таким
образом стал еще одним выразителем гуманистической активности Ренессанса. В
теории государства у него не находилось места для церкви и религии. Хотя он и
признавал необходимость религии для народных масс, но выступал против
католической религии, которая, по его мнению, изжила себя. Все эти положения нашли свое
выражение в так называемой концепции фортуны, под которой он понимал
объективную закономерность общественного развития. Макиавелли вычленяет
разные стороны этой проблемы и пытается определить соотношение между
необходимостью и свободной волей человека. Он пишет, что «фортуна
распоряжается половиной наших поступков, но управлять другой половиной или
около того она предоставляет нам самим» [Избр. соч. С. Ill, 112]. Поэтому,
говоря о фортуне, Макиавелли также подчеркивает необходимость активных
действий человека: лучше быть смелым, чем осторожным, но при этом
деятельность должна направляться трезвым умом и волей, стремящейся к
определенной цели, естественно, высокой и благородной. Все это Макиавелли
называет вирту - доблестью. Полная реализация вирту - дело почти
неосуществимое, его добивались лишь немногие выдающиеся люди. Большинство же
людей выбирают средние пути, которые часто губительны. При этом необходимо
учитывать особенности времени, в котором живет личность, и если последняя
считается с особенностями времени, то достигает многого. В понятии «вирту»
отразились те моральные требования к поведению личности, которые возникли в
эпоху гуманизма, когда человек стал цениться очень высоко. Создание произведения «Государь»
связано с конкретной политической историей Флоренции и в целом Италии,
раздробленной и слабой по сравнению с окружающими ее соседями. Поэтому
Макиавелли считал, что требуется государь, способный объединить Италию и
создать республику. Прототипом такого государственного деятеля Макиавелли
послужил Чезаре Борджа, известный своим аморализмом и предательством. В «Государе» Макиавелли
нарисовал образ мудрого правителя, который должен сочетать в себе и в своих
действиях качества льва, способного расправиться с любым из врагов, и лисицы,
способной провести самого изощренного хитреца. Он должен по возможности не
удаляться от добра, но при необходимости не чураться и зла. Такой образ
действий со времен Макиавелли стал называться макиавеллизмом. Согласно Макиавелли,
любое насилие можно оправдать во имя государственного блага. Однако было бы неправильно
представлять Макиавелли проповедником вероломства и насилия. Он был прежде
всего сыном своего времени, гуманистом. Его теория, концепция, взгляды это
отражение политической ситуации той эпохи. Сам Макиавелли ни в коей мере не
оправдывал ни насилие, ни аморализм в политике. Наоборот, он считал, что
государь, политик должен считаться с мнением народа, что глас народа - глас
Божий, что государь должен быть гибким. Если правитель прибегает к насилию,
то это не должно быть самоцелью. Он подчеркивал, что насилие должно
исправлять, а не разрушать. Политическим идеалом Макиавелли выступала Римская
республика. Поэтому он и считал, что лучшей формой правления является республика,
хотя республиканская форма правления не всегда возможна, если в народе не
развиты гражданские добродетели. Для достижения высших целей, по мнению
Макиавелли, и возможны ситуации, когда все средства хороши. Государь должен
руководствоваться общепринятыми нормами морали, но если государственные
интересы требуют действий, которые пренебрегают нравственностью, то на это
можно пойти. |
|
Мак-Люэн
Херберт Маршалл |
МАК‑ЛЮЭН
(McLuhan), Херберт Маршалл (1911–1980) – канадский философ и социолог,
публицист. Выступал с работами по философии истории, теории социальной
коммуникации, культурологии, педагогике, психофизиологии, лит‑ре. Создатель
культурно-исторической типологии, живописующей впечатляющую картину пожирания
одного средства коммуникации другим. Основанием этой типологии служит
господствующее средство коммуникации. М.-Л. развил версию антропологии, в
которой средство коммуникации предстает не столько как техника, сколько как
метафора. Каждая «ампутация» функции тела и передача ее «средству» ведет к
реструктурации опыта. Фигура М.-Л. как пророка электронной эры стала
элементом массово-культурной мифологии. Его метафоры («галактика Гутенберга»,
«глобальная деревня») вошли в повседневный язык; без них не обходятся
практически ни одна работа о книге, медиа, о всемирной сети Интернет. В 1930-е гг. М.-Л. изучал в Кембридже
англ. литературу. Был учеником А. Ричардса и Ф.Р. Ливиса, основателей
литературоведческой школы «новой критики». Огромное влияние на М.-Л. оказало
творчество Т.С. Элиота и Дж. Джойса, а также экономиста и социолога Инниса.
Свою «Галактику Гутенберга» (1962) М.-Л. предлагал рассматривать как
комментарий к Иннису. Проф. ун‑та
в Торонто (1952). Для М. – Л. характерен своеобразный «поп» –
стиль, суть к‑рого в принципиальном отсутствии доказательств, в
незавершённости утверждений («проб»), рассчитанных на образно‑метафорич.
восприятие читателей. В центре внимания М. – Л. – развитие
коммуникативных функций предметов культуры («средств» общения), к‑рые,
по его мнению, формируют характер общ‑ва. К средствам связи и общения
относил язык, деньги, дороги, печать, науку, телевидение, компьютеры и др. С
романтич. позиций отрицая «цивилизацию письменности», М. – Л. нарисовал
картину «глобальной деревни», где с помощью массовой коммуникации возникает
идиллия свободного от индивидуализма общения людей. Осн. соч.: «Галактика
Гутенберга» (1962), «Понимающая коммуникация» (1963), «Город как аудитория»
(1977, в соавторстве). Начав преподавать с кон. 1930-х гг. в
ун-тах США и Канады, М.-Л. проявлял особое внимание к грамматике, риторике и
поэтике медиа, к комиксам, рекламе и поп-музыке. Мир символов, остроумия,
роскошный и похотливый хаос человеческих страстей и объектов желания в
«тотемистских медиа» заворожил его. Он стал писать об этом мире, акцентируя
внимание на культурных клише. Первые годы пребывания в Америке М.-Л.
владела идея героического сопротивления «прекрасному новому миру». Таков
настрой его «Механической невесты», написанной в 1950-е гг. В дальнейшем
общий настрой его работ изменился. В большинстве сочинений М.-Л. отсутствует
меланхолический тон, столь свойственный как традиционалистской, так и
либеральной или марксистской критике новых типов культуры. Прошлобудущее книги // Курьер ЮНЕСКО.
1972. № 1; Телевидение. Робкий гигант // Телевидение: вчера, сегодня, завтра.
М., 1987; The Gutenberg Galaxy: The
Making of Typographic Man. Toronto, 1962; The Medium is the Massage. New York, 1967.;
Козлова Н.Н. Маклюэн: контексты мифа // Пушкин. 1998. №5(11). |
|
Макробий
Амвросий Феодосий |
МАКРОБИЙ АМВРОСИЙ ФЕОДОСИЙ (Macrobius Ambrosius Theodosius) (cep. 5 в. н. э.), латинский платоник, эклектик и популяризатор
греческого знания. Жизнь. Родился ок. 390 н. э. в Сев. Африке в аристократической
латинской семье, имевшей греческие корни, занимал высокое положение в
обществе, имея титул vir clarissimus et inlustris («светлейший и сиятельный муж»), был
префектом претория в Италии (430), умер не позднее 485. Время жизни М. и хронология
его сочинений реконструируются на основании текстов M, a также обширного просопографического материала, относящегося к
4-6 вв. В отношении времени жизни и творческой активности М. предлагались
более ранние датировки (ныне отвергнуты), мотивированные принадлежностью М. к
аристократическому кругу Претекстата, а также связанные с неверной
идентификацией Макробия с викарием Испании (399^400), или проконсулом Африки
(410), или главным спальником двора (422). Сочинения. 1) «Комментарий на "Сон Сципиона"» (Commentarii
in Somnium Scipionis) в 2-х кн. (ок. 435-445); 2) «Сатурналии» (Saturnalia)
(ок. 430) сохранились неполностью (утрачены начало и конец 3-й и 4-й книг, а
также заключительная часть 7-й книги) и 3) грамматическая работа о глаголах
(ок. 425, вероятно самая ранняя), предназначенная для знатоков,
интересующихся тонкостями и сложностями языка. Ее фрагменты сохранились под
разными названиями, напр.: «О сходстве и различии латинского и греческого
глагола» (De differentiis et societatibus graeci latinique verbi, согласно Cod. Parisinus
7186 и Cod. Bobiensis, η. Vindobonensis
16); «О глаголе» (De verbo, - Cod. Bobiensis, n. Vindobonensis 17) и др. Комментарий на «Сон Сципиона»
представляет собой разъяснение заключительного отрывка из трактата Цицерона «О
государстве» (VI 9, 9-26, 29), озаглавленного «Сон Сципиона», и является
наиболее значительной философской работой М. В «Комментарии» он стремился не
столько разъяснить текст Цицерона, сколько изложить в упрощенном виде
различные философские теории. Большая их часть укладывается в традицию
платонизма, но различимо влияние стоицизма, неопифагореизма, герметической
философии. Для литературного стиля М. (как и для всех позднеантичных
комментаторов) характерно желание создать впечатление работы с
первоисточниками и продемонстрировать собственную эрудицию. Прямыми и
опосредованными источниками М. служили греческие тексты (Платона, Аристотеля,
Плутарха, Плотина, Порфирия, Ямвлиха), которые он кратко пересказывает,
опуская промежуточные рассуждения и оставляя лишь выводы. Им были
использованы также латинские прозаические (Цицерон) и поэтические
произведения (Вергилий, Ювенал и др.), точные цитаты из которых вплетены в
излагаемые им греческие теории. Содержание. «Комментарий» начинается с рассуждения о различии и
сходстве между целями трактатов об устроении государства Платона и Цицерона,
обосновывается причина включения этими авторами сновидений и мифов в свои
работы (I, 1); говорится о допустимости использования вымысла в философских
сочинениях (2), приводится (отчасти заимствованная у Артемидора)
классификация снов (3), указывается цель «Комментария»: истолковать сочинение
Цицерона (4) - что в целом служит введением ко всему трактату. Далее следует
собственно комментарий текста Цицерона, который М. начинает с описания
свойств и достоинств чисел пифагорейской десятки (5-7); приводит намеченную
Плотином и разработанную Порфирием иерархию добродетелей, образующих четыре
ступени: добродетели гражданские, философские (названные «очищающими»),
добродетели уже очищенного духа и архетипические (8); говорит о праведном
образе жизни правителей государства, индивидуальной душе (9-10), границах
преисподней (11), стадиях нисхождения души от ее небесного источника до
воплощения в тело человека (12), недопущении самоубийства (13), наделении
человека умом и ощущениями (14). М. также пишет о движении небесной сферы и
планет (15-19), о диаметре Солнца и небесных сфер (20); дает описание первого
метода разбивки Зодиака на созвездия (21), доказывает, что Земля находится в
центре Вселенной (22). Вторая книга комментария начинается с изложения
численных отношений музыкальных созвучий и планетарных сфер, их связи с
мировой душой (II, 1-3). Далее речь идет о гармонии небесных сфер (4) и
географии (5-9) - в частности, М. пишет о размещении населенных людьми
четырех поясах Земли, о расположении океанов, о причинах приливов и
длительности мирового года (10-11), о том, что душа человека чужда смертности
(12); об учении Платона о бессмертии души (13), об опровержении критики
Аристотелем самодвижности души (15-16), о разделении философии на
нравственную, естественную и рациональную (17). Текст М. позволяет следующим
образом реконструировать его представления о мироздании. Во главе всего
находится Бог, являющийся единственным творцом того, что существует (I, 14,
5). Бог создает ум, который сохраняет полное подобие своего Создателя, а ум
творит душу (I, 14, 6). Соответственно, у М. имеет место платоническая
триада: Бог - Ум - Душа. Ум (νους, Ι, 14, 8) не причастен телесной природе и занимает более высокий
статус, чем душа, вниз от которой располагается телесная природа. От ума душа
получила способность рассуждения, и это - частица божественного в ней, однако
по своей природе душа имеет свойства, которые соответствуют бренному:
чувственное восприятие и рост (I, 14, 7). Т. обр., у мировой души имеются две
составляющие: одна (высшая) относится к божественному, другая (низшая) - к
бренному. Душа производит тела неба, звезд, светил и планет и наделяет их
божественным умом (I, 14, 8), создает «цельное тело Вселенной» (I, 17, 5),
которое М. именует «большим телом», а иногда - «всем» (το παν) или Небом (I, 17, 10-11). Все эти тела
относятся М. к божественным, или вышним, поскольку они созданы первыми и
имеют сферовидную форму, которая присуща божественному (I, 14, 8). Космос
состоит из девяти сфер. Самая верхняя - небесная, называемая Апланес (απλανής) - вращается, хотя и кажется неподвижной.
Она объ-емлет все остальные сферы: Сатурна, Юпитера, Марса, Солнца, Венеры,
Меркурия, Луны (I, 17, 1-3), которые тоже вращаются с одинаковой скоростью (I,
14, 26), но в противоположном по отношению к небесной сфере направлении (с
запада на восток). Вечное движение Неба М. связывает с вечным движением души,
которая его создала и привела в движение (I, 17, 8-9). Отступая от высших
небесных тел вниз, душа обращается к земной, т. е. бренной и смертной
природе, расположенной под орбитой Луны. В центре Вселенной находится Земля (I,
22, 6), представляющая собой и осадок божественного, и первую субстанцию живого
(I, 12, 15). Мировая душа является источником всех остальных душ космоса (I,
6, 20), ее действия направлены двояко. В своих высших проявлениях она создает
божественные тела и наделяет их умом; на низшем уровне она творит единичные
души, которые впоследствии одушевляют земные тела. Причину того, что земные
тела обладают божественным умом в минимальной степени, М. видит в том, что
сама Душа, вырождаясь в процессе творения, отдаляется от своего создателя
(ума), а также в хрупкости самих бренных тел, не позволяющей им выдержать
божественность ума (1,14,9). Из всех смертных тел, которые делятся на три
рода, только человеческие имеют способность разумения или силу ума (I, 14,
10). Помимо разума человек имеет еще две способности: чувственные ощущения и
рост. М. подчеркивает, что только разум отличает человека от двух других
родов земных тел - животных и растений, - объясняя, что люди имеют эту способность
благодаря тому, что стоят прямо, могут видеть небо и тем самым отступают от
низшей природы к высшей. К тому же голова человека имеет божественную форму
сферы, а лишь такая форма может воспринять Ум (I, 12, 10). Животные обладают
подобием разумения - сопутствующей чувствам памятью (I, 14,12), а также
чувственным ощущением и ростом. Растения же лишены и разумения, и ощущения,
имея лишь силу роста (I, 14, 13). В итоге, все земные тела так или иначе
причастны душе, которая является их жизненной силой (I, 14, 15). Несмотря на
то что сама душа бессмертна и находится в вечном движении (I, 14, 14 и И, 13,
6-12), ее действие притупляется в смертных живых существах из-за их косности
(I, 14, 14). М. поясняет, что их смерть – лишь кажущаяся, поскольку ничто не исчезает,
а лишь изменяет вид, возвращаясь к своему началу и к первоэлементам (II, 12,
12-13). М. не всегда разделяет душу и ум, иногда употребляя эти термины без
различия (напр., 1,14,14, где мировая душа названа умом). Основные положения
учения М. об индивидуальной душе (I, 9-14) традиционны: небесное
происхождение души; смерть души - жизнь тела; тело -темница для души. Эта
проблематика проходит через все произведение М., сочетаясь с арифметикой,
астрономией, гармонией, и является составной частью его теории мироздания.
Души, обитая на неподвижной сфере звезд, именуемой Апланес, изначально знают
о своем божественном происхождении (I, 9, 10). Как только отдельную душу
охватывает желание телесного, она ниспадает вниз, вселяясь в смертное тело.
Спускаясь из своего звездного жилища на Землю, она последовательно проходит
через планетарные сферы, вбирая качества, которые проявятся у нее тогда,
когда она уже будет облечена в тело (I, 12, 13-14). На сфере Сатурна душа
получает способность рассуждения и понимания (рассудочное и умозрительное
начала); на сфере Юпитера - способность действовать (деятельное начало); на
сфере Марса - мужество (яростное начало); на сфере Солнца - способность
чувствовать и мнить (чувственное и имагинативное начала). Движение желания
(вожделеющее начало) она приобретает на сфере Венеры; способность
формулировать и толковать воспринятое (истолковывающее начало) - на сфере
Меркурия. При вступлении в лунную сферу душа развивает способность сеять тела
и давать им рост (растительное начало) (I, 12, 14). Эта способность настолько
далека от божественного, насколько она первейшая во всем земном (I, 12, 15).
Пересекая небесные сферы, душа не только приобретает те или иные начатки.
Одновременно она умирает, и умирает столько раз, сколько сфер, спускаясь,
пересекает (I, 11, 12). При нисхождении отдельная душа, постепенно окутываясь
эфирными оболочками, переходит из бестелесного состояния в телесное, готовясь
к тому, что на Земле считается жизнью (I, И, 11). Вселяясь в тело, душа
правит им (она - «подлинный человек» и «бог» (II, 12,10-11)), свыкается с его
привычками и может забыть о своем небесном источнике. Те души, которые не
утратили знания о своем божественном происхождении и не испортились
загрязнениями телесного мира, после смерти земного тела возвращаются обратно
в свои небесные обители. Те же души, которые настолько свыклись с телом, что
забыли о своем божественном происхождении, не способны вернуться назад на
небо. После смерти тела они витают около него, не находя себе места до тех
пор, пока не вселятся в другие тела - не обязательно человеческие, но,
возможно, и звериные (ferinus), избрав тот род живых существ, который
наиболее соответствует прежним, усвоенным еще в теле, привычкам и
наклонностям (I, 9, 5). Именно бренное тело является темницей для души, из
которой та вырывается, когда тело умирает (I, 11, 1-3). Т. обр., попадая в
земное тело, душа умирает (1,12,16) и, напротив, смерть тела - это начало
подлинной жизни души. «Сатурналии» написаны М. в жанре застольных бесед. В этом
произведении запечатлены традиции и обычаи старины, передано классическое
наследие Античности, подводится итог филологической работы предшествующих
поколений. М. следовал модели трактатов Цицерона («О старости», «О дружбе»,
«Об обязанностях», «О государстве», «О природе богов»), Афинея («Пир мудрецов»),
Плутарха («Застольные беседы»), Авла Геллия («Аттические ночи»). Основные
темы «Сатурналий»: 1) солнечный монотеизм (I, 17—18), разработанный еще имп. Юлианом
в речи «К Царю Солнцу» и нашедший у М. свое завершение: М. вслед за Юлианом
показывает, что Солнце - это «ум мира» и все божества греческой, римской и
египетской религии — это проявления одного Бога Солнца, и 2) литературная
критика Вергилия (отрывки из 1-й, 3-й книг, сохранившиеся главы IV книги, V и
VI книг). «Комментарий» оказал некоторое влияние на средневековых авторов. В
большей степени ими были восприняты те части его трактата, которые посвящены
астрономии (Дунгал, Иоанн Скотт, Бернард Сильвестр), аритмоло-гии (Иоанн
Скотт, Ремигий из Осерра), геометрии (т. е. картографии и географии),
классификации сновидений (Гильом из Конша). Средневековые ученые в т. ч. и
благодаря М. получили знания о Плотине с парафразами его рассуждений о
добродетелях, трех высших началах, нисхождении души в тела и ее стремлении
вернуться обратно к месту своего происхождения (Иоанн Скотт, Ремигий,
Бирхтфертом из Рамси). Соч..: 1) «Комментарий»: Ambrosii
Theodosii Macrobii Commentarii in Somnium Scipionis. Ed. I.
Willis. Lpz., 1963, 1994 (ВТ); Macrobe.
Commentaire au songe de Scipion. Texte et., trad, et comm. par M.
Armisen-Marchetti. T. I—II. P., 2001-2003; некоторые переводы: Macrobius.
Commentary on the «Dream of Scipio». Tr. by W. H.
Stahl. Ν. Υ., 1952; Macrobio. Commento al Somnium
Scipionis. A cura di M. Regali. Lib. I—II. Pisa, 1983-1990; Рус. пер. фрагм. In Somn. Scip. I, 3-5 и фрг. гл. 6, - Знание за пределами науки.
М., 1996; In Somn. Scip. I, 1-4, 8-14, 17; II, 12-13, 17. Пер. М. С.
Петровой, - Петрова 2007, с. 177-277; 2) «Сатурналии»: Ambrosii Theodosii Macrobii Saturnalia. Ed. I.
Willis. Lpz., 1963, 1994 (ВТ); некоторые переводы: Macrobe. Les Saturnales. Trad,
nouvelle avec introd. et notes par H. Bornecque. Vol. 1-2. P.,
1937; Macrobius. The Saturnalia. Tr. by P. V. Davies. N. Y.; L., 1969; I Saturnali
di Macrobio Teodosio [Texte imprimé]. A cura di N. Marinone. Tor., 1967 (19973); рус.
пер. Saturn. II см.: Исседон: альманах по древней истории и культуре. Т. 3
(Приложение). Екатеринбург, 2005; 3) «[О глаголах]»: De Verborum Graeci et Latini Differentiis vel Societatibus Excerpta. Ed. P. De Paolis. Urbino, 1990. Лексика, конкордансы: Granados Fernandez
M. С. Lexico de Macrobio. Vol.
1-8. Madrid, 1980; Concordantia Macrobiana: a concordance to the Saturnalia
of Ambrosius Theodosius Macrobius. Prep, by R. M. Marina Saez and J. F. Mesa
Sanz. Vol. 1-3. Hldh., 1997. Лит.: Whittaker T. Macrobius or philosophy,
science and letters in the year 400. Camb., 1923; Wessner P. Macrobius, - RE,
Bd. 14, 1928, col. 170-198; Boyancé P. Études sur le Songe de
Scipion: essais d' histoire et de psychologie religieuses. P.,
1936; Stahl W. H. Introduction, - Macrobius. Commentary on the «Dream of
Scipio». Tr. by W. H. Stahl. N. Y., 1952; Benjamin A. S. An historical
commentary on the second book of Macrobius' Saturnalia. Philad., 1955; Cameron
A. The date and identity of Macrobius, - JRS 56, 1966, p. 25-38; Büchner
К. Somnium
Scipionis: Quellen, Gestalt, Sinn. Wiesb., 1976; Flamant J. Macrobe et le
Néoplatonisme Latin à la fin du IVe Siècle. Leiden,
1977; Gersh St. Middle Platonism and Neoplatonism. The Latin Tradition. Voll.
II. Notre Dume, 1986; Fuentes Gonzalez P. P. Macrobius (Ambrosius
Theodosius), - DPhA IV, 2005, p. 227-242; Лосев, ИАЭ
VIII. Итоги
тысячелетнего развития. M., 1992; Уколова В. И. Поздний Рим: пять портретов. М., 1992; Миллер
Т. А. Литературная критика поэзии Вергилия в период «языческого возрождения»,
- Очерки истории римской литературной критики. М., 1963, с. 283-309; Петрова
М. С. Макробий Феодосии и представления о душе и о мироздании в поздней Античности.
М., 2007. |
|
Максвелл
Джеймс Клерк |
МАКСВЕЛЛ (Maxwell) Джеймс Клерк (род. 13 июня 1831, Эдинбург – ум. 5
нояб. 1879, Кембридж) – англ, физик и теоретик науки; профессор с 1871,
создатель классической электродинамики. Обосновал (теперь отвергнутую)
электромагнитную теорию света. Т. н. уравнения Максвелла настолько тесно
связывают электрическое и магнитное поля, что если мы знаем изменения в одном
поле, то становится ясным и состояние другого. Важной в
теоретико-познавательном отношении работой Максвелла является «Matter and motion», 1876. |
|
Максим
Грек |
МАКСИМ ГРЕК, в миру Михаил Триволис (ок.
1470— 1556) — переводчик, богослов, мыслитель. Род. в знатной греч. семье,
жил в Сев. Италии, где сотрудничал с деятелями эпохи Возрождения, затем постригся
в монахи доминиканского монастыря Св. Марка во Флоренции (1502). Не найдя
успокоения, вскоре уезжает в Афон, в Ватопедском монастыре вновь принимает
постриг. В 1518 по приглашению Василия III прибывает в Москву. Переводит
«Толковую Псалтырь», творения отцов церкви, жития, статьи из сб. «Свиды». За
нестяжательские взгляды, несогласие с автокефалией рус. церкви осуждается на
соборах 1525 и 1531. Долгие годы проводит в заточении в монастырях. После
кончины стал почитаться как местный, а с 1988 — как общерусский святой.
Творческое наследие включает свыше 350 переводов и оригинальных сочинений
разных жанров. Своеобразно соединивший византийские, возрожденческие и
др.-рус. традиции, продемонстрировавший высокий уровень богословской,
филологической, филос. культуры, он стал крупнейшим мыслителем России 16 в.
Разрабатывал проблемы онтологии (учения о Св. Троице, метафизике света,
макро- и микрокосме), гносеологии (логика, интуитивное познание,
кардиогносия), антропологии (три части души: разумная, волевая, чувственная,
пять видов сенсуалистического познания), этики (генезис морали от
естественных религий до иудаизма и христианства), социально-исторического
анализа (гармония светской и духовной властей, трактовка самодержавия как
умения монарха властвовать собой). М.Г. дал свое определение философии,
считая ее возвышенным знанием, которое «благоукрашение законополагает и
гражданство составляет», целомудрие, кротость, мудрость хвалит, «добродетель
и благость вводит в сем свете». Соч. пр. Максима Грека. Казань, 1859—1862.
Ч. 1—3; Соч. пр. Максима Грека в русском переводе. Троице-Сергиева лавра,
1910—1911 (репринт 1996).; Иконников B.C. Максим Грек и его время. Киев,
1915; Громов М.Н. Максим Грек. М., 1983; Буланин Д.М. Переводы и послания
Максима Грека: Неизданные тексты. Л., 1984; Denissoff E. Maxime le Grec et
l'Occident. Paris, 1943. |
|
Максим
Тирский |
МАКСИМ ТИРСКИЙ (Μάξιμος ό Τύριος) (2-я пол. 2 в. н. э.), античный ритор
и философ-платоник, представитель т. н.
«второй софистики». Евсевий Кесарийский относит расцвет деятельности
М. к 148-152 н. э. Согласно Суде, выступал с речами в Риме (возможно, в одной
из философских школ) при имп. Коммоде (Suda, s. ν. Μάξιμος, Μ 173),
и это был его второй приезд в Рим; очевидно, он посещал с выступлениями
разные города империи. Сохранились лекции M., посвященные
общеэтической и религиозной проблематике, а также отдельным вопросам
платоновской философии, что делает их ценным источником по истории Среднего
платонизма. Собрание речей М. представляет собой своеобразный курс лекций, с
которыми он выступал перед аудиторией в протрептических целях, его задача -
приобщить к школьной платонической проблематике слушателя образованного, но
не имеющего профессионально-философской подготовки. Традиционный порядок
издания корпуса речей М.: 1.0 том, что философ может рассуждать о любом
предмете. 2. Следует ли воздвигать статуи богам? 3. Правильно ли Сократ
сделал, что не стал оправдываться на суде? 4. Кто лучше постиг божество:
поэты или философы? 5. Следует ли молиться? 6. Что такое знание? 7. Какие
болезни тяжелее: телесные или душевные? 8. Что такое Сократов «демоний»? 9. И
снова про «демоний»; 10. В самом ли деле науки - это припоминания? 11. Кто
есть бог согласно Платону? 12. Следует ли отвечать преступлением на
преступление? 13. Если есть мантика, то что зависит от нас? 14. Как отличить
льстеца от друга? 15. Какая жизнь лучше: практическая или теоретическая? 16.
О том, что теоретическая жизнь лучше практической. 17. Правильно ли Платон
исключил Гомера из своего государства? 18. Что такое «эротическое искусство»
Сократа? 19. И еще о любви-эроте. 20. Снова об «эротическом искусстве»
Сократа. 21. И опять о любви-эроте. 22. О том, что радость, доставляемая
философскими беседами, превосходит радость всякого общения. 23. Кто полезнее
государству: военные или земледельцы? Часть 1. Полезнее воины. 24. О том, что
полезнее земледельцы. 25. О том, что речи, согласные с делами, - прекрасны.
26. Существует ли школа последователей Гомера? 27. Является ли добродетель
искусством? 28. Как жить без печали? 29. Какова цель философии? 30-32. Об
удовольствии: удовольствие если и благо, то не прочное. 33. Какова цель
философии? 34. О том, что можно найти пользу и в превратностях судьбы. 35.
Как вести себя с другом? 36. Предпочитать ли кинический образ жизни? 37. Учат
ли добродетели общеобразовательные дисциплины? 38. Можно ли стать хорошим по
божественному уделу? 39-40. Может ли один добродетельный быть лучше другого?
Рассуждение о том, что не может. Рассуждение о том, что может. 41. Если бог
творит добро, то откуда зло? Популярный платонизм М. близок версии учения,
представленной в сочинениях современника М. Апулея из Мадавры (125 - до 170
н. э.), также философствующего ритора. М. в характерных ритмизованных
периодах пропагандирует известные платонические тезисы (в сочетании с
аристотелевскими): о соотношении чувственного и умопостигаемого, душе и теле,
познании и его видах, вечных богах и смертных людях; о способностях души,
соотношении разума и чувств и т. д. Напр., стандартные определения
божественной природы сопоставимы с аналогичными определениями у Апулея,
Алкиноя и Нумения: бог - царь, один над всеми, он отец, а боги -дети его и
его соправители; бог не видим очами, не изречен устами, не ощутим руками, не
слышим ушами, и только душе чистой и разумной он видим благодаря подобию; он
- разум (νους), вечно мыслящий все, мыслящий сразу;
незыблемо царство божие, и закон его крепок, и в царстве его - спасение, и т.
п. (Or. 11). Бог самодостаточен, совершен, всемогущ, по совершенству своему
желает блага, по самодостаточности - обладает им, по всемогуществу - способен
его творить; и желая, и имея, и будучи способен - он творит добро (Or. 38). Речи
«Следует ли молиться» (Or. 5) и «Если есть мантика, то что зависит от нас?» (Or.
13) посвящены вопросу о свободе воли, популярному у средних платоников
благодаря усвоению стоической традиции (ср. Alcin. Didasc. 26); в «О демонии Сократа»
(Or. 8-9) обстоятельно обсуждаются вопросы демонологии (ср. одноименное
сочинение Апулея); в речи «Если бог благ, то откуда зло?» (Or. 41) имеется содержательное
обсуждение популярной темы о происхождении зла. В речах можно найти
интересные историко-философские оценки значимости наследия Гомера, Пифагора,
Сократа, Диогена Синопского и Эпикура. Соч.: Trapp M. В. (ed.). Maximus Tyrius: Dissertationes. Stuttg.; Lpz.,
1994 (ВТ); Hobein H. (ed.). Maximi
Tyrii Philosophoumena. Lpz., 1910 (ВТ); Maximus of Tyre. The Philosophical
Oratios. Transi, by Μ. Β. Trapp. Oxf., 1997; Koniaris G. L. (ed.).
Maximus Tyrius: Philosophumena-Dialexeis. В.; Ν. Υ., 1995; Максим Тирский. Предпочитать ли ки-нический образ
жизни? Пер. Ю. Шульца, - Антология кинизма. Изд. подг. И. М. Нахов. M., 19962, с. 296-302; О том,
следует ли молиться. Пер. И. Ковалевой, - Античность в контексте
современности. Под ред. А. А. Тахо-Годи и И. М. Нахова. М.,
1990, с. 196— 204. Лит.: PuiggaliJ. Étude sur les
Dialexeis de Maxime de Tyr. Lille, 1981; Koniaris G. L. On Maximus
of Tyre: Zetemata (I), - ClassAnî 1, 1982, p. 87-121; Idem. On Maximus
of Tyre: Zetemata (II), - Ibid. 2, 1983, p. 212-250; Trapp M. В. Studies in Maximus of Tyre: A second
century philosophical orator and his Nachleben, AD 200-1850. Oxf., 1986; Idem.
Philosophical sermons: the «Dialexeis» of Maximus of Tyre, - ANRWII 34, 3,
1997, p. 1945-1976; Maxime de Туг, -
DPhA IV, 2005, p. 324-348; Ковалева И. И. Вопросы композиции корпуса речей Максима Тирского, - Вестник МГУ, Сер. 9. Филология, 1987, 3. |
|
Максим
Эфесский |
МАКСИМ ЭФЕССКИЙ (Μάξιμος ο Έφέσιος) (ок. 310 - ок. 372 н. э.), греческий
философ-платоник, ученик Эдесия Каппадокийского (см. Пергамская школа), учитель
и приближенный имп. Юлиана. Происходил из знатного рода и владел внушительным
состоянием (Eunap. V. Soph. 473), которое преумножил благодаря роли
популярного предсказателя и чудотворца при дворе имп. Юлиана (Ibid., 476, 477, 478). Юлиан познакомился с
М. ок. 351/2; по сообщению Либания, именно М. ввел Юлиана в мистерии «по халдейским
обрядам» в подземном храме Гекаты в Эфесе (Liban. Or. 13, 12). Когда Юлиан занял престол
в 361, он пригласил М. к своему двору в Константинополь; М. оставался рядом с
Юлианом вплоть до его гибели во время персидской кампании, и был свидетелем
его смертного часа (Ammian, XXV 3). Впоследствии М. при имп. Валенте и
Валентиниане попал в немилость и в 364 был заключен в тюрьму, откуда его
освободили благодаря вмешательству Фемистия. В 370 приговорен к смерти по
обвинению в участии в заговоре с целью убийства императора и колдовстве (ως μαγγαν€ΐας ttoloOvtol, Socr. Hist. Eccl. Ill 1, 50), казнен в
371/2 на родине в Эфесе (Eunap. V. Soph. 478-480; Ammian, XXIX 1, 42 и др.). В
соч. Евнапия «Жизни философов и софистов» М. изображен в духе после ямвлиховской
историографии «божественным мужем», теургом, мистиком, прибегавшим к
экстатическим состояниям (ср. Eunap. V. Soph. 475), и предсказателем (т. е.
тем, кто занимается πρόγνωσις), толковавшим волю богов и склонявших
их силу на свою сторону; по Евнапию, М. профессионально занимался
предсказаниями, и большую часть его клиентов составляли придворные имп.
Юлиана. С самим императором М. состоял в переписке, сохранилось несколько
писем, ему адресованных. В одном из них Юлиан обращается к М. с просьбой дать
оценку его литературному творчеству и решить, стоит ли публиковать его
сочинения. О почтительном отношении Юлиана к М. говорит и обращение καθηγεμών (вождь, руководитель), которое
использует Ю. О личности М. в связи с его влиянием на имп. Юлиана сообщают
историк Аммиан Марцеллин, ритор Либаний, Фемистий, церковные авторы Зосима,
Сократ Схоластик, Созомен, Феодорит. Согласно Суде (Suda, M 174,
1), M.,
учитель Юлиана, и Максим Византийский - одно лицо (что неверно, ср. Socr. Hist.
Eccl. Ill 1, 48), и этому Максиму приписываются сочинения: «О неразрешимых
противоречиях» (Περί άλυτων αντιθέσεων), «О началах» (Περί καταρχών), «О числах» - и некий «комментарий на
Аристотеля» (υπόμνημα είς "Αριστοτέλψ). Возможно, M. действительно был автором комм, к
«Категориям» Аристотеля (ср. Simpl. In Cat. 1,15 ел.), что было исключительным фактом в истории
Пергамской школы. Упомянутое сочинение «О началах» сохранилось, однако авторство
этой гекзаметрической поэмы, посвященной астрологической прогностике,
принадлежит не М. Эфесскому, но Максиму Эпироту. Лит.: Delflm Santos F. Maxime
(d'Éphèse?), - DPhA IV, 2005, p. 313-322. |
|
Мак-Таггарт
Джон Элис |
МАК-ТАГГАРТ (McTaggart) Джон Эллис
(1866—1925) — англ. философ. Представитель т.н. радикального персонализма, в
духе которого М.-Т. интерпретировал гегелевскую философию, сочетая ее с
учением Г. В. Лейбница о монадах. Абсолютная идея, по М.-Т, — не
субстанция-субъект, как считал Г.В.Ф. Гегель, а «духовное сообщество»
личностей; сверхиндивидуального сознания не существует, но индивидуальное
сознание субстанционально, несотворимо и неразрушимо. Отсюда вывод М.-Т. о
«бессмертии души» (независимо от того, признается ли существование Бога).
М.-Т. пытался обосновать некоторые догмы религии, утверждая, что истинная
философия должна быть мистической. Studies in
Hegelian Cosmology. Cambridge, 1918; Studies in Hegelian Dialectic.
Cambridge, 1922; The Nature of Existence. Cambridge, 1968. Vol. 1-2. Broad Ch.D.
Examination of McTaggart's Philosophy. Cambridge, 1933—1938; \fel. 1—2;
Airaksinen T. The ontological Criteria of Reality. A Study of Bradley and
McTaggart. Turku, 1975. |
|
Малиновский
Василий Федорович |
МАЛИНОВСКИЙ
Василий Федорович (1765, Москва — 23. 03(4. 04). 1814, Петербург) —
просветитель. Окончил философский ф-т Московского ун-та (1781). Имел большой
опыт государственной службы — в архиве Коллегии иностранных дел, в рус. миссии
в Лондоне, а затем представительстве России на Ясском конгрессе (1791).
Указом Александра I в 1811 г. М. был назначен первым директором
Царскосельского лицея; стремился воспитать лицеистов в духе свободомыслия,
преданности народу и родине. В историю рус. мысли вошел как автор трактата
"Рассуждения о мире и войне" (Ч. 1—2. 1790— 1798, опубл. 1803),
проникнутого гуманистическими идеями. В области методологии М. — приверженец
философско-антропологической традиции (Гердер, Лессинг, Кант, Шиллер, Джефферсон,
Поп, Гельвеции, Радищев и др.). Уподобляя весь человеческий род одному
"отдельно взятому человеку", М. рассматривал процессы, происходящие
в нем, в духе антропогенеза. В анализе проблемы войны и мира обращают на себя
внимание выводы М. о "праведных" и "неправедных" войнах,
о необходимости вовлечения в борьбу за "вечный мир" всех людей
мира, "всего человечества". Гуманную и свободолюбивую позицию
защищал М. и в статьях, опубликованных в еженедельном обозрении "Осенние
вечера", журн. "Сын Отечества", в др. периодических изданиях.
М. принадлежат перевод и издание В 1803—1807 гг. "Отчета
генерал-казначея Александра Гамильтона, учиненного Американскими Штатами в
1791 г., о пользе мануфактур и отношения оных к торговле и земледелию".
Перевод снабжен предисловием М., в к-ром сформулированы рекомендации для
российских законодателей. В 1802 г. им была направлена "Записка об
освобождении рабов" на имя графа В. П. Кочубея, возглавлявшего по
поручению Александра I "Комиссию о законодательстве". Ряд
неопубликованных работ М. (среди них "История России для простых и
малых", "Пустынник", отрывки проектов гражданских узаконений и
т. п.) хранится в архивных учреждениях Петербурга и Москвы. Соч.:
Избр. общественно-политические соч. М., 1958. Лит.:
Араб-Оглы Э. А. Выдающийся русский просветитель-демократ // Вопросы
философии. 1954. № 2; Каменский 3. А. Философские идеи русского просвещения.
М., 1971; Достян И. С. Европейская утопия В. Ф. Малиновского // Вопросы истории.
1979. № 6; Шкуринов П. С. Философия России XVIII в.
М„ 1992. С. 215—220. |
|
Малколм
Норман |
МАЛКОЛМ (Malcolm) Норман (р. 1911) — амер. философ аналитического направления.
Учился в ун-те Небраски и в Гарварде, однако решающее влияние на его взгляды
оказало пребывание в 1938—1939 в Кембриджском ун-те, где он общался с Дж.
Муром и Л. Витгенштейном. С последним М. встречался и переписывался до его
смерти в 1951 и может считаться его учеником и последователем. М. написал
широко известную книгу о Витгенштейне, стремился разъяснить его идеи и метод,
а также применить их к тем областям, которые не попали в сферу интересов
австро-англ. философа. Филос. работы М. посвящены эпистемологии, философии
религии, философии сознания и языка. Одним из центральных для М. является
вопрос о взаимоотношении здравого смысла, естественного языка и филос.
рассуждения. По мнению М., если философ исследует к.-л. понятие и приходит к
выводу, расходящемуся со здравым смыслом и естественным языком, то, скорее
всего, можно предположить, что он совершил ошибку. Витгенштейн о значении выражения «Я
знаю» // Философия, логика, язык. М., 1987; Ludwig Wittgenstein: A Memoirs.
Oxford, 1958 (рус. пер.: Людвиг Витгенштейн: воспоминания // Людвиг
Витгенштейн: человек и мыслитель. М., 1993);
Dreaming. London, 1959 (рус. пер.: Состояние сна. М., 1993); Problems of Mind: from Descartes to
Wittgenstein. New York, 1971; Thought and Knowledge. London, 1977; Nothing is
Hidden: Wittgensteins Criticism of his Early Thought. Oxford, 1986. |
|
Мальбранш
Никола |
МАЛЬБРАНШ (Malebranche) Никола (род. 6 авг. 1638, Париж
– ум. 13 окт. 1715, там же) – франц. Философ, главный представитель
окказионализма, получившего свое развитие на основе идей картезианства. Один из главных представителей контрреформаторской
(несхоластической) католич. философии во Франции («христианский Платон»),
наряду с Гейлинксом – глава окказионализма).
По Мальбраншу, внешние чувства не могут познать существа вещи. Полученные
с их помощью восприятия, напр. восприятия цвета, твердости, вкуса и т. д.,
суть плоды нашего воображения. Достоверность (здесь Мальбранш рассуждает
подобно Декарту) обеспечивают нам только законы чистого мышления, которые
содержатся в математических понятиях и суждениях и в необходимости которых
проявляется Бог. Вследствие этого мир и человек растворяются в Боге; все в
Боге познается только посредством Бога, который оказывает влияние везде и
всюду (см. Панентеизм). Своим возникновением
окказионализм обязан дуалистической неопределенности Декарта в решении
психофизической проблемы. Исходное положение окказионализма: материальная и
духовная субстанции сами по себе не могут воздействовать друг на друга в силу
своей абсолютной независимости. Но все-таки такое взаимодействие происходит,
значит, оно зависит от Бога, только при участии божественной воли происходит
взаимодействие духовных и материальных явлений. Бог - единственная причина
этого взаимодействия. Таким образом, если Декарт
сводил роль Бога к минимуму и склонялся к деизму, то Мальбранш, напротив,
максимизирует роль Бога, возвращаясь к августинианскому пониманию Божьей воли
в жизнедеятельности человека. Мальбранш отрицал существование
объективных причинных связей между вещами, так как полагал, что их духовная
движущая сила не находится в движущихся телах, ибо эта движущая сила не что
иное, как воля Божья. «Единственная причина, - писал он в «Разыскании
истины», - не есть реальная и истинная причина, а причина случайная,
определяющая решение Творца природы действовать тем или иным образом в том
или ином случае». В этих словах сформулирована своего рода «философия
случайности» (отсюда название этого течения - окказионализм - учения о
случайности), при которой развитие мира не имеет своей самостоятельности, а
целиком зависит от Бога. Отсюда следует и главный
гносеологический вывод Мальбранша: познание вещей - это всего лишь наше
«видение их в Боге». В то же время Мальбранш сохраняет основные исходные
установки Декарта: рационалистическое требование ясности как критерия
истинности. Чувственные представления подтверждают существование вещей, но
свойства вещей мы познаем посредством идей. Вещи мы воспринимаем ясно и
отчетливо, но это свидетельствует лишь об истинности божественных идей,
которые отражаются в вещах. Мальбранш защищал в основном пантеизм, в силу
чего его книги трижды вносились католической церковью в «Индекс запрещенных
книг». Осн. произв.: «De la recherche de la verite», 1674 (рус. пер. «Разыскание
истины», тт. 1-2, СПБ, 1903-1906), «Беседы о метафизике и о религии» (1688). |
|
Мальро
Андре |
МАЛЬРО (Malraux) Андре (род. 3 нояб. 1901, Париж – ум. 1976) – франц.
писатель-философ. Занимался археологией и китаеведением, много путешествовал
по Южной и Восточной Азии, Афганистану и Персии, России и Северной Америке,
проводил исследования в Индокитае. Пребывание в Кантоне и Испании связано с
его революционной деятельностью; приблизительно с 1934 Мальро начинает
выступать против всех форм тоталитаризма, борясь за духовную свободу. В своих
романах он изображает человека как обладающего силой соперника Всевышнего.
Как художник слова, Мальро был наиболее сильным из писателей современности,
пишущих в духе экзистенциализма. Осн. работы: «Les conquestants», 1927 (рус.
пер. «Завоеватель»); «La voie voyale», 1929; «La condition humaine», 1933 (рус. пер. «Условия человеческого
существования»); «Le temps du
mepris», 1935 (рус. пер. «Годы презрения»); «L'Espoir», 1937
(рус. пер. «Надежда»); «Les noyers
d'Altenburg», 1941. |
|
Мальтус
Томас Роберт |
МАЛЬТУС (Malthus) Томас Роберт (род. 1766 – ум. 1834) – англ,
священник, экономист и демограф. В своем труде «Опыт о законе
народонаселения» (1798; рус. пер. т. 1-2, 1868) сформулировал закон
народонаселения, базирующийся, по его мнению, на законах природы, согласно
которому население имеет тенденцию расти в геометрической прогрессии, а
средства существования могут увеличиваться лишь в прогрессии арифметической.
С «абсолютным перенаселением» рекомендовал бороться путем регламентации
браков и регулирования рождаемости. Его последователи в настоящее время указывают
на то, что природа «сводит счеты» с человечеством за чрезмерное его
размножение происходящим загрязнением и разрушением окружающей среды,
катастрофическим подчас воздействием на механизм обратной связи между
природой и человеком. |
|
Мамардашвили
Мераб Константинович |
МАМАРДАШВИЛИ Мераб
Константинович (1930–1990) – известный отеч. философ., д‑р филос. наук,
проф., сыгравший в
1960— 1980 гг. большую роль в возрождении филос. жизни и филос. климата в
стране. М. мало издавался при жизни, но часто выступал с курсами лекций по
актуальным проблемам философии в МГУ, во ВГИКе, в Ин-те общей и
педагогической психологии, в ун-тах др. республик и стран. Его ученики и
последователи записывали эти лекции на магнитофон, перепечатывали. Они и
послужили основой для посмертного издания его книг. От лекций М. и от самого
его облика веяло подлинной мудростью. Он был образцом честности и искренности
в мышлении. Работал в редакциях ж. «Вопросы философии» и
«Проблемы мира и социализма» (Прага), в Инте междунар. рабочего движения. В
1974 г. был выведен из состава редколлегии журнала «Вопросы философии»
по идеолог. мотивам. С 1980 г. – науч. сотрудник Ин‑та
философии АН Грузии. Филос. и публично-просветительская деятельность М.
сыграла важную роль в становлении независимой филос. мысли в СССР. Сквозная
тема философии М. – феномен сознания и его значение для становления чел‑ка,
познания, культуры. Ранние работы М. связаны с деятельностью Московского
логич. кружка, образованного в нач. 1950‑х на филос. ф‑те МГУ.
Кружок стремился исследовать мышление как историч. развивающееся органичное
целое и построить, в связи с этим, особую содержательно‑генетическую
логику. Проблемы, поставленные логич. кружком и этими исследованиями получили
своеобразное отражение в работе М. «Формы и содержание мышления» (1968), где
определена последовательная картезианская позиция, а мышление трактуется как
состояние сознания. Эта позиция во многом определила стиль и направление
последующих исследований М., а категория сознания стала центральной в его
филос. Осн. соч.: «Как я понимаю филос.» (1990, 1992), «Символ и сознание.
Метафизические рассуждения о сознании, символе и языке» (1999, в соавт.
с А.М. Пятигорским), «Мой опыт нетипичен» (2000), «Эстетика мышления»
(2000) и др. Наиболее
известные курсы: «Проблемы анализа сознания» (М., 1974), «Аналитика
познавательных форм и онтология сознания» (Рига, 1980), «Опыт физической
метафизики» (Вильнюс, 1984) — потом частично вошли в его книги «Классический
и неклассический идеалы рациональности» (Тбилиси, 1984), «Необходимость себя»
(М., 1996). Очень популярны были лекции М. о Р. Декарте, И. Канте и М.
Прусте, вышедшие потом отдельными книгами. Значительная часть наследия М. до
сих пор не опубликована. Главная тема исследовании М. — отология
сознания: опыт построения «физической метафизики», проблема превращенных форм
сознания, проблема рациональности, проблема живого человека. Лейтмотивом всех рассуждений М.,
следующего филос. традиции Декарта, Канта, Э. Гуссерля, Пруста, является
фраза «всегда уже поздно», т.е. в любое мгновение мир уже застыл, окаменел.
Как поместить себя в глыбе мира на предназначенное только тебе место
существования? Нужно попытаться втиснуться в кратчайший промежуток времени,
когда мир еще не застыл, увидеть его «первым светом». «Еще на малое время есть
свет с вами; ходите, пока есть свет», — приводил он часто слова из Евангелия.
Увидеть мир первым светом — значит открыть его для себя, породить заново. Мир
не длится автоматически, он должен каждый раз снова и снова порождаться.
Устойчиво только то, что порождено каждым. Или порождено заново. Мир
воспроизводится и длится, потому что воссоздается каждый раз в каждой точке.
Но поскольку каждый раз мир творится заново, то это предполагает определенный
метафизический закон — еще ничего не случилось, нет никакого «было», а есть
только «есть». Мы говорим о мире, в котором в определенном смысле еще ничего
не случилось. Мы находимся в такой точке. Все случится только с моим
участием. Поскольку истинно только то, что заново
порождено, что понято и открыто мной, мое понимание — вклад в онтологию мира.
Истина не есть вещь, которая лежит в каком-то уголке, ожидая, когда ее
откроют. То, что мы должны увидеть, мы не можем ни выдумать, ни получить
наблюдением — с нами это должно случиться. Эта увиденность мира в проблеске света
возникает, согласно М., из темноты, которая есть у каждого человека. Темнота
— это прежде всего невозможность знания, невозможность делать что-то знанием.
Можно ли получить понимание того, что нечто благородно, что нечто есть добро,
из к.-н. правила, из общего определения? Это надо каждый раз устанавливать
самим, т.е. я должен заново воссоздать понимание. Необходимость воссоздания
ч.-л., его принципиальная неопределенность и есть темнота, и у каждого она
индивидуальна. Каждая общая истина для каждого из нас непонятна по-своему. Мы
должны разрешить ее по-своему, в своей уникальной ситуации, новым
возрождением применительно к конкретным явлениям, состояниям. Высокое, доброе, прекрасное не есть
что-то, присущее предметам самим по себе, это не вещи, это то, что не
существует без человеческого усилия, все это приходится «держать» самому, а
для этого нужно быть живым. Самому понять — значит полностью присутствовать,
мир требует полного присутствия. «Полностью присутствовать» — это и значит
быть живым. Только тогда, когда я присутствую
полностью, для меня есть красота, есть понимание, есть истина, есть Бог.
«Единственная ценность, которую мы ищем во всех проявлениях себя и
окружающего, — это живое... Реальная человеческая психология строится на
оживлении того, что мертво. Мы оживляем мертвые слова, мертвые жесты, мертвые
конвенции. Единственное наше трепетное, то есть волнующее нас отношение ко
всему этому в действительности сводится к тому, что за всеми симуляторами и
привидениями, за вещами — мы ищем жизнь. И себя как живущего. Ибо ощущать
себя живым совсем не просто». Призвание человека и прежде всего
философа — быть живым, реализовать свое понимание и тем самым свое место в
мире. И никто вместо тебя этого сделать не может, никому нельзя передоверить
этот труд. Философия вообще говорит об уникальных состояниях, актах, которые
нельзя передать другому, в которых нельзя даже сотрудничать или разделять
труд или друг другу помогать. Возможен, конечно, диалог, но его возможность
обусловлена тем, насколько человеку удастся стать сначала один на один с
бытием и быть одиноким. Только из нашего метафизического одиночества можно
протянуть руку другому. Самое большое мужество — это мужество
идти к тому, о чем в принципе нельзя знать, чего нельзя достичь с помощью знания,
а можно постичь, только став живым. А живой человек — это человек, способный
всегда быть другим, свободный человек. «В Евангелии, — писал М., — кроме
известных всем заповедей, которые философы называют обычно исторической
частью Евангелия, есть лишь одна действительная заповедь. Отец заповедовал
нам вечную жизнь и свободу. То есть обязал нас к вечной жизни и свободе. Мы
вечны, если живы, и нужно идти к тому, чего в принципе нельзя знать. А на это
способны только свободные существа. Само это движение есть проявление
свободы». Лекции о Прусте. М., 1995; Как я понимаю
философию. М., 1997; Кантианские вариации. М., 1997; Эстетика мышления. М.,
1999; Современная европейская философия. XX век. М., 1999. Произведенное и названное. Философские
чтения, посвященные М.К. Мамардашвили (Москва, 1995). М., 1998. |
|
Мангейм
Карл |
МАНГЕЙМ (Mannheim) Карл (род. 27 марта 1893,
Будапешт – ум. 9 янв. 1947, Лондон) – нем. социолог; один из основателей социологии знания, известен своими работами
по теории идеологии и динамике культуры, ученик Макса
Вебера. Родился в Венгрии. Учился
в ун-тах Будапешта, Фрайбурга, Гейдельберга, Парижа. На развитие взглядов М.
оказали влияние идеи Г. Риккерта, Э. Гуссерля, М. Вебера, М. Шелера, традиции
неокантианства, неогегельянства, феноменологии. После падения Венгерской
советской республики (1919) переехал в Германию. С 1925 — приват-доцент
философии Гейдельбергского ун-та, с 1929 — проф. социологии и национальной
экономии во Франкфуртском ун-те. В 1933 эмигрирует в Великобританию.
Преподает социологию в Лондонской школе экономики и политической науки, с
1941 преподает в педагогическом центре при Лондонском ун-те, где в 1945
становится проф. педагогики. Исходил из историзма Трёлъча, а также учений Маркса, и Фрейда. Познание – дело не мышления, а переживания, являющегося
результатом совместной деятельности в обществе. Ожидание лучшего будущего
Мангейм связывал с новым человеческим типом; создать этот тип – задача
воспитания, которое «не может обойтись без внутреннего опыта религиозных
образцов». В «нем.» период своего творчества М.
занимается проблемами теории познания, разрабатывает
философско-социологическую методологию социального познания, обращается к
изучению феноменов духовной культуры. Наиболее известная работа этого периода
«Идеология и утопия» (Ideologie und Utopie. Bonn, 1929; в пер. на англ.
Ideology and Utopia. London, 1952). В «англ.» период творчества М. создает
работы, посвященные анализу исторического опыта 20 в. Наиболее известные
работы этого периода «Человек и общество в эпоху преобразований» (1935),
«Диагноз нашего времени: очерки военного времени, написанные социологом»
(1943). М. ощущал свое время как эпоху
радикальной социальной перестройки. Как и ряд др. мыслителей межвоенного
времени, суть этой перестройки он видел в переходе от традиционной социальной
структуры с ее устойчивой иерархией и господством просвещенной элиты к
обществу, в котором массы начинают претендовать на власть. Деструктивный ход событий, по М.,
заключается в том, что те социальные слои, у которых и раньше можно было
предполагать латентное господство иррациональных импульсов, теперь
декларировали их открыто, а группы, которые могли бы противодействовать
иррационализму, оказались беспомощными и как бы внезапно потеряли веру в
формирующую общество власть разума. В свете этих представлений М. обращает
внимание на феномен диспропорционального развития человеческих способностей.
Он выделяет два основных вида опасных диспропорций в развитии способностей.
Первый состоит в том, что в обществе техническое и естественно-научное знание
опережает моральные силы и осмысление общественного прогресса. Второй вид
диспропорций возникает из-за того, что ни в одном более или менее сложном
обществе разумность и моральность, необходимые для решения поставленных
хозяйством и обществом задач, не проявляются во всех социальных группах и
слоях равномерно. Эту диспропорциональность М. называет «социальной
диспропорциональностью» и связывает с нею необходимость регулирования
процессов перехода к демократии масс. На основе диагноза, поставленного
современному обществу, М. задается вопросом: «Действительно ли на стадии
массового общества все безнадежно, и мы без надежды на спасение движемся
навстречу гибели общества и культуры?» Он считает, что история либерального
массового общества достигла точки, когда расчет на естественный ход событий
ведет к гибели. Чтобы избежать рокового развития событий, необходимо
регулирование, даже планирование социокультурных изменений. Необходимо также
признать, что система образования, рассчитанная на индивидуализированный
элитарный тип в демократии меньшинства, не может быть без изменений успешно
применена к массам. Пассивное ожидание в этой ситуации опасно, ибо к власти
придут те группы, которые под планированием понимают одностороннее,
функционирующее в их интересах господство сил. Планирование не означает
насилия над живыми структурами, диктаторскую замену творческой жизни. Это
прежде всего умение ясно видеть тенденции развития и учитывать их в своих
действиях, поддерживать любые позитивные сдвиги. В последние годы жизни М. интенсивно
занимался проблемами воспитания и образования, изменениями, происходящими в
культуре и общественной жизни. Диагноз нашего времени. М., 1994; Seele
und Kultur. Budapest, 1918;
Die Strukturalyse der Erkenntnistheorie. Berlin, 1922; Historismus. Bonn,
1924; Das Problemeiner Soziologie des Wis-sens. Bonn, 1925; Ideologische und
soziologische Interpretation der geistigen Gebilde. Bonn, 1926; Ideologie und
Utopie. Bonn, 1929 (в пер. на англ.; Ideology and
Utopia. London, 1952); Mensch und Gesellschaft im Zeitalterdes Umbraus.
Leiden, 1935 (в пер. на англ.: Man and
Society in an Age of Reconstruction. Studies in Modern Social Structure.
London; New York, 1940); Diagnosis of Our Time: Wartime Essays of
Socioligist. London, 1943. Малинкин А.Н. О Карле Манхейме //
Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994. |
|
Мандевиль
Бернард де |
МАНДЕВИЛЬ (Mandeville) Бернард де (род. ок. 1670,
Дордрехт – ум. 21 янв. 1733, Лондон) – англ, философ, француз по
происхождению. Окончил Лейденский университет в Голландии, где получил диплом
врача. С 1700 г. жил в Англии, в Лондоне, занимался врачебной практикой,
специализируясь по нервным болезням. Им написана работа, посвященная
истерическим и ипохондрическим заболеваниям. Прославился своей единственной
сатирической, снабженной комментариями «Басней о пчелах» («The fable of the bees or private vices made public benefits», 1714), в которой не колеблясь представляет эгоизм
движущей силой всей нравственной и культурной жизни; нравственные понятия –
выдумка господ, чтобы управлять массами. Влияние Мандевиля сказалось прежде
всего на франц. энциклопедистах. В основу этого труда положен
памфлет в стихах, опубликованный в 1705 г. под названием «Возроптавший улей,
или Мошенники, ставшие честными». Затем эта поэма была переиздана с
прибавлением к ней комментария и других произведений Мандевиля -
«Исследования о происхождении моральной добродетели», «Исследования о природе
общества» и др. Произведение Мандевиля имело огромную популярность в Англии и
многократно переиздавалось под названием «Басня о пчелах, или Пороки частных
лиц - благо для общества». В своей басне Мандевиль нарисовал
картину общества, которое соединяет в себе роскошь и нищету, праздность и
расточительность и тяжелый труд. Для этого он использует аллегорию, изображая
жизнь пчелиного улья, в котором все продается и покупается. Все пороки, какие
только известны человечеству, господствуют в нем. Однако именно эти пороки и
дают возможность процветать улью, «пороки частных лиц» выступают источником
общественного благосостояния. И вот в один прекрасный день все
пчелы этого улья стали честными, вместо пороков появились добродетели. Все
это привело к коренным изменениям в улье: из улья ушло богатство, и он зачах.
Таким образом, мораль «Басни» заключалась в выводе, что пороки - необходимое
состояние общества. Объективно «апология пороков»,
развернутая Мандевилем, была направлена на разоблачение господствовавшей в то
время морали, на показ того, как лицемерие и ханжество английских буржуа
прикрывало их подлинное лицо - стремление к богатству и прибыли. Мандевиль
написал сатиру на систему общественных отношений современной Англии. В «Комментариях» к поэтической
басне Мандевиль еще дальше развивал свои главные мысли о власти пороков и их
необходимости для общества. Он полагал, что присущие человеческой природе
эгоистические черты сделали человека общественным существом. «Самыми
необходимыми качествами, - писал он, делающими человека приспособленным к
жизни в самых больших и, по мнению всего света, самых счастливых, самых
процветающих обществах, являются его наиболее низменные и отвратительные
свойства» [Басня о пчелах. М., 1974. С. 45]. Мандевиль подчеркивает
неотделимость пороков от жизни общества, их необходимость для его развития.
Он делает вывод о необходимой и важной роли зла в развитии общества: «То, что
мы называем в этом мире злом, как моральным, так и физическим, является тем
великим принципом, который делает нас социальными существами, является
прочной основой, животворящей силой и опорой всех профессий и занятий без
исключения; здесь должны мы искать истинный источник всех искусств и наук; и
в тот самый момент, когда зло перестало бы существовать, общество должно было
бы прийти в упадок, если не разрушиться совсем» [Басня о пчелах. С. 329]. В то же время Мандевиль не
выступает защитником пороков как таковых, он лишь указывает тенденцию
общественного развития. Он писал: «Я далек от того, чтобы поощрять порок, и
думаю, что если бы можно было полностью изгнать из государства грех
нравственной нечистоплотности, то это было бы для него невыразимым счастьем,
но я боюсь, что это невозможно» [Басня о пчелах. С. 109]. В противоположность Шефтсбери
Мандевиль утверждал, что «моральное чувство», не носит прирожденный характер,
оно есть продукт общественной жизни. Законодатели и мудрецы изобрели мораль
для того, чтобы люди могли сдерживать свои стремления и согласовывать их с социальными
потребностями, и научили людей различным нравственным понятиям, таким, как
стыд, честь, добродетель, порок. Так, добродетель обозначало все то, что
связано со стремлением к благу других и обузданию своих собственных аффектов.
Пороком назвали все то, что человек делает для удовлетворения своих желаний,
игнорируя общественные интересы. Законодатели, по мысли Мандевиля, получили
из всего этого большую пользу, так как при помощи морали смогли управлять
«огромным количеством людей с большой легкостью и безопасностью» [Басня о
пчелах. С. 69]. Концепция Мандевиля содержит в
себе много верного. Он вскрыл глубинные психологические причины поведения
людей и роль моральных качеств людей в развитии общества. Идеи Мандевиля
получили свое дальнейшее развитие в трудах позднейших философов, хотя сначала
вызвали бурную полемику. Идеи о роли зла в истории в дальнейшем разрабатывал
Гегель. |
|
Манегольд
из Лаутербаха |
МАНЕГОЛЬД ИЗ ЛАУТЕРБАХА (Manegold von Lauterbach) (род. ок.
1060 – ум. после 1103, Марбах, Эльзас) – теолого-политический странствующий
оратор ранней нем. схоластики. «Наставник современных учителей», первый в
нем. философии критик интеллектуализма; философию характеризовал как опасное
для веры и души «излишество», ссылаясь на противоречия между языческими философами;
он признавал значение только за этикой, причем различал, по античному
образцу, политические, очищающие и чистые добродетели; защищал принцип
народного суверенитета и благородство князей видел не в рождении или
привилегиях, а в человеческом достоинстве и выполнении долга. |
|
Манн
Томас |
МАНН
(Mann) Томас (1875-1955) - немецкий писатель, работавший в жанре философского
романа. За "Волшебную гору" М. в 1929 была присуждена Нобелевская
премия. В 1933 М. был вынужден эмигрировать из Германии в Швейцарию, а в 1938
- в США. Основные произведения: "Будденброки" (т. 1- 2, 1901), "Тристан"
(1903), "Волшебная гора" (1924), "Марио и волшебник" (1930),
"Иосиф и его братья" (1933-1943), "Лотта в Веймаре" (1939),
"Доктор Фаустус" (1947) и др. Вместе с Гессе М. является крупнейшим
представителем немецкого философского романа, в котором тесно переплетается литература
с философией. [Единственное отличие философии, как литературного жанра, от
такого романа состоит в форме изображения "истории идеи". Если в философском
трактате экспликация и разворачивание идеи всецело подчинены форме выражения абстрактной
мысли, то в немецком философском романе раскрытие идеи отображается человеческим
характером, его судьбой, его конкретными экзистенциальными переживаниями и размышлениями.
Первой переходной ступенью между чистой литературой и чистой философией можно
назвать произведения Ницше. Он первым стал рассматривать идею как
своеобразную коммуникативную ситуацию, например, в "Так говорил Заратустра"
идеи ("старые ценности", "новые ценности", "вечное
возвращение", "сверхчеловек", "последний человек" и
т.д.) - это конкретные встречи, диалог с вещами и людьми Заратустры. В
соответствии уже только с этим, основоположником жанра немецкого философского
романа, его провозвестником можно смело считать Ницше.] Именно поэтому М. и
Гессе непосредственно обращаются к творческому наследию этого философа, хотя
идейное наследие, имплицитно отразившееся у М., скорее принадлежит Канту, а у
Гессе - Гегелю. Как же оказалось возможным такое совпадение мыслительного содержания
литературы и философии? В свое время Гейне писал о том, что в Германии
"философия стала национальным делом", при этом произошло совмещение
теологического и философского знания: "со времен Лютера перестали
различать истину теологическую и философскую". На выходе этого процесса,
некогда заложенного протестантским движением, немецкая культура стала на удивление
симметричной: одни феномены культуры могли быть с легкостью переведены на
язык других феноменов. Представителем же, атомом этой культуры явился
"немецкий человек", или, по словам того же Гейне, "абсолютный
человек, в котором нераздельны дух и материя". Итак, своеобразие
немецкого философского романа обусловлено уже самой возможностью перевода
философии на язык литературы, которую предоставила постлютеровская культура.
Принципиально общее мыслительное содержание с содержанием философии, такая же,
по содержанию, экспликация и такое же разворачивание идей - это и есть узкий
критерий выделения жанра чисто немецкого философского романа. Правомерность данного
определения жанра можно подтвердить на примере интерпретации "Доктора Фаустуса"
- центрального произведения М. В качестве поворотных моментов сюжета данного
произведения автор использует, как прототип, действительно имевшие место
события из биографии Ницше, даже выбор автором для главного героя, Адриана Леверкюна,
призвания музыканта, а также связываемый М. с этим трагический конец героя,
детерминированный философскими идеями Ницше. Под воздействием этих идей
складывается общий характер произведения. Следуя утверждению Ницше, Манн
соглашается с тем, что трагическая судьба есть оплотнившаяся в мифе музыка.
"Способность музыки рождать миф... это как раз миф трагический, миф,
говорящий языком аллегории о дионисийском познании, т.е. о таком познании
эстетического закона, которое, уничтожая конкретных индивидов, растворяет нас
в единой природе". Отсюда трагический конец Леверкюна, с учетом процитированной
выше идеи, изначально закладывается в самом факте его призвания. Поэтапное раскрытие
в нем музыкального таланта должно было сопровождаться становлением трагического
мифа. Трагический характер мифа определяется тем, что в его истории
фиксируется изоморфным образом замена старой "аполлоновской меры" (старого
эстетического закона) на новую, - в итоге изображается "распад
естества". Данная идея "самораспада естества", его самоизменения,
идея перехода от одной "аполлоновской меры" через
"дионисийское начало" к другой у позднего Ницше получила название
"вечное возвращение". Итак, общее философско-эстетическое положение
о единстве музыки, мифа и трагедии, почерпнутое из идей молодого Ницше, явилось
основным мировоззренческим принципом "Доктора Фаустуса". Однако
своеобразие немецкого философского романа заключается как раз в поверхностном
значении произвольно выбранного общего положения, им детерминируется скорее литературная
форма. Идеи Ницше - только внешний контекст произведения, повлиявший
исключительно на формальный характер сюжетной линии. Развитие основного
ментального содержания образа главного героя увязывается Манном с тезисом, что
"музыка" и "богословие" (в немецкой культуре богословием
называлась философия, а философией - богословие), являются "родственными
сферами". Этот тезис коррелирует с признанием ранним Ницше
"таинственного единства немецкой музыки и немецкой философии". Музыкальное
"образование" Леверкюна сопровождалось "образованием"
философским, начала которого были посеяны еще его отцом. Прямая же связь
леверкюновской музыки (ее реальный прототип - музыка Шенберга) и его теологических
убеждений, его особой моральной позиции обнаруживается в университете, когда Леверкюн
с особым интересом слушает лекции приват-доцента Шлепфуса. "Богословие этого
мэтра больше напоминало "демонологию"... Он, если можно так выразиться,
диалектически включал кощунственное отрицание в самое понятие божественного,
преисподнюю - в эмпиреи, и признавал нечестивость неотъемлемым спутником
святости, а святость - предметом неустанного сатанинского искушения, почти
непреодолимым призывом к осквернению святыни". На этом этапе Леверкюн воплощает
в себе идеал чистого разума (см. Трансцендентальный субъект), лекции Шлепфуса
- пока только пример интеллектуальной игры; такая же игра - изучение, под
руководством Кречмара, бетховенской композиции. Однако любое чистое
сверхчеловеческое знание напоминает мудрость змеи-искусительницы, мудрость
"маленькой приват-доцентки, за 6 тысяч лет до рождения Гегеля излагавшей
всю гегелеву философию" (Гейне). В чем же заключается получившее впоследствии
свое развитие особое теологическое убеждение Леверкюна? Для ответа на вопрос
необходимо вспомнить одно противоречие этической системы Канта, вспомнить понятие
радикального зла. Моральный закон выводится не из какого-либо предмета воли,
а - в соответствии с кантовским требованием автономии морали - из самой
"воли", т.е. из чистого сверхчеловеческого разума. По причине нравственной
самотождественности идеального субъекта, все моральное поведение сводится
исключительно к императиву, согласно которому необходимо поступать из максимы
своей чистой воли так, чтобы она мыслилась для себя вечным законом. Ницше развивает
мысль Канта следующим образом. - Всяческое долженствование, прививаемое от
чего-то внешнего по отношению к воле, иначе говоря, как бы наследуемое от
"Духа Тяжести", запечатлевает себя в тяжелых словах "добро"
и "зло" и, отныне, должно быть заменено на положительное "хотение"
идеального субъекта, который только и обладает действительным знанием (волением)
добра и зла. Свобода "сверхчеловека" продуцирует из себя любую
мораль и тем самым делает (благодаря императиву) из субъективного поступок
необходимый. Данная свобода заключается в любви к самому себе, но эта любовь
открывается перед миром лишь в качестве голого разума чистого субъекта,
который принуждает быть "мыслимым всему сущему". Итак, тотальное
доверие чистому разуму, чистой интеллектуальной игре таит в себе семя радикального
зла, на что обратил внимание Кант. Ведь добродетель (следование императивам
чистого разума) практически никогда не совпадает со счастьем. Между ощущением
счастья и состоянием внутреннего бытия, достойным того, чтобы его испытать,
зияет тьма, вдыхающая в мир всякое зло, поэтому выполнение требований долга
всегда соприкасается с прямой зависимостью от природного стремления к счастью
(от неморального мотива). Так изначальное отчуждение заслуженного воздаяния
от морального поведения обращает автономию морали в автономию зла. Отсюда
любое знание (от рождения несчастное) произрастает лишь в союзе со злой
совестью (нежеланием быть счастливым): по словам Ницше, "для лучшего в
Сверхчеловеке необходимо самое злое", ибо только "последние люди"
могут лепетать о том, что они "открыли счастье". Леверкюн впервые
"напустил" на себя радикальное зло, посетив публичный дом, куда его
завел рассыльный, "здорово похожий на Шлепфуса". Этап интеллектуальных
игр только подготовил Адриана, очистив его от всего человеческого. "Высокомерие
духа болезненно столкнулось с бездушным инстинктом. Адриан не мог не вернуться
туда, куда звал его обманщик". Другими словами, идеальный субъект (Цейтблом,
автор повествования, называет Леверкюна чуть ли не святым) сталкивается с животным
желанием быть счастливым, впервые он сталкивается с неморальным мотивом,
чтобы навсегда затем оттолкнуть его от себя. Но теперь, идя на поводу этого
мотива, он разыскивает "Эсмеральду" и, отклоняя ее же предостережения,
заболевает венерическим менингитом. Так Леверкюн получает "хмельную инъекцию",
нарушая субординацию между моральными и неморальными мотивами, радикальное зло
("союз с дьяволом") полностью овладевает душой и телом Адриана. По определению
Канта, если субъект принимает неморальные мотивы ("мотивы чувственности")
в свою максиму как сами по себе достаточные для определения произвола (позитивного
хотения чистой воли), не обращая внимания на моральный закон, существующей в
нем, то он будет радикально злым. Нарушение субординации мотивов, при котором
неморальный мотив делается условием мотива морального и выражает состояние такого
радикального зла. Отныне у Леверкюна переворачиваются все ценности,
"целомудрие теперь идет не от этики чистоты, а от патетики скверны".
- "Тот, кому от природы дано якшаться с искусителем, всегда не в ладу с
людскими чувствами, его всегда подмывает смеяться, когда другие плачут, и
плакать, когда они смеются". Дьявол запретил Леверкюну то, что не
является ни моральным, ни неморальным мотивом. Благодаря этому чувству Адриан
мог бы из ледяного чистого субъекта вновь стать человеком, в этом случае
радикальное зло должно было бы его оставить. Итак, по М., радикальное зло пребывает
там, где действует идеальный субъект. Осознание этого тезиса и явилось
теологическим убеждением Леверкюна. Именно этот тезис оказался ключевым для понимания
феномена леверкюновской музыки, ее "квазицерковный", "культовый"
характер - специфическое отражение извращенной субординации радикально злой
воли. Музыкальные произведения "Чудеса Вселенной", "Apocalypsis
cum figurus", "Плач доктора Фаустуса" - все это яркие
свидетельства "союза с дьяволом". Например, в "Апокалипсисе"
диссонанс выражает все высшее, благочестивое, духовное, тогда как гармоническое
- мир ада, толкуемый как мир банальности и общепринятости (такое же
толкование добра и зла как "тяжелых слов" у Ницше). Музыка Леверкюна
соединяет "кровавое варварство" с "бескровной интеллектуальностью",
т.е. постоянно вводит в горизонт чистого субъекта неправильно субординированные
неморальные мотивы. Жизнь Леверкюна М., устами Цейтблома, называет "обобщением
отечественного национального опыта". Любопытно, что дьявол говорит о
себе как о "природном немце" с характером космополита. Только немцы
обладают божественно глубоким содержанием и дьявольски точной формой одновременно.
"У европейцев есть форма, у русских - содержание, а у немцев - и то, и
другое", - говорит один из героев произведения. Особый параллелизм
судьбы Германии в период Второй мировой войны и творческой жизни Леверкюна не
случаен. ("Фаустовская воля к власти", т.е. радикальное зло немецкой
культуры, - это, по Шпенглеру, страшная "воля к мировому господству в военном,
хозяйственном и интеллектуальном смысле".) Идея "немецкой Европы",
проистекающая из лекверкюнова "одиночества", сверхчеловеческого интеллектуализма
немецкого духа, есть особым образом трактуемый "космополитизм", а
именно - желание слиться с Европой через ее подчинение - это как раз тот
"космополитизм", который приписывает себе с долей иронии дьявол и
который относится к Леверкюну. Трагический конец Адриана следует интерпретировать,
исходя из параллели, - с точки зрения поражения Германии в войне. "Все,
что жило на немецкой земле, отныне вызывает дрожь отвращения, служит примером
беспросветного зла". Рациональное утверждение, что власть должна принадлежать
"целому" или, другими словами, что противоположностью буржуазной
культуре и ее сменой является коллектив, не способно приносить плоды, т.к. в одночасье
рожденный радикально злой идеальный субъект обречен на исчезновение. В
"Докторе Фаустусе", кстати, идею о высшей миссии "коллектива"
с явно национал-социалистическим смыслом поддерживают, помимо Леверкюна,
также Фоглер, Унруэ, Хольцшуэр, Брейзахер и др. - "люди науки, ученые,
профессора". Итак, фаустовская тема как тема радикального зла представляет
собой основную идею, которую эксплицирует и разворачивает М. в "Докторе
Фаустусе". Вся постлютеровская немецкая культура - это монолит
трансцендентальной сверхфилософии и трансцендентальной сверхкультуры,
необозримое сооружение которого открывается в фаустовской теме М. |
|
Манхейм
Карл |
МАНХЕЙМ
(Mannheim) Карл (1893-1947) - немецкий социолог и философ. Учился в университетах
Будапешта, Фрейбурга, Гейдельберга, Парижа. В 1919 эмигрировал из Венгрии в
Германию. С 1925 - приват-доцент философии в Гейдельбергском университете. С
1929 - профессор социологии и национальной экономики в университете Франкфурта-на-Майне.
В 1933 эмигрировал в Великобританию, профессор Лондонской экономической школы.
С 1941 - в Институте образования при Лондонском университете, в котором в
1945 стал профессором педагогики. Незадолго до смерти возглавил один из отделов
ЮНЕСКО. Инициатор и редактор "Международной библиотеки по социологии и
социальной реконструкции". Основные работы: "Историцизм"
(1924); "Проблема социологии знания" (1925); "Идеология и
утопия. Введение в социологию знания" (1929); "Человек и общество в
эпоху преобразования" (1935); "Диагноз нашего времени" (1943);
"Свобода, власть и демократическое планирование" (1950);
"Система социологии" (1959); "Эссе о социологии и культуре"
(1956) и др. Ориентируясь на создание синтетической концепции знания, М. был
знатоком современных ему философских и социологических идей, многие из
которых органически использовал в своем творчестве (прежде всего это относится
к неокантианству, феноменологии и марксизму). Отмечается непосредственное
влияние на М. со стороны Лукача, Э. Ласка, Риккерта, Гуссерля, М. Вебера,
Шелера. Резкое неприятие у М. встретили натуралистическая установка и методологические
принципы позитивизма, а критическому разбору у него подверглись практически все
эпистемологические концепции и ориентации общественно-политической мысли
(либерализм, консерватизм, социализм, фашизм, коммунизм). Специально занимался
анализом религиозного (христианского в целом, анабаптистского - в особенности)
сознания. В целом творчество М. носит достаточно цельный характер, но
отмечено изменением (существенным) акцентов, которое произошло в эмигрантский
период его жизни. С проблем собственно социологии знания его внимание перемещается
на диагностику европейской социокультурной ситуации. Кроме того, в этот
период М. активно занимался проблемами культуры и образования. Концепция М.
может быть определена как культурологическая методология с предельно широкой
сферой возможных аппликаций. Культурно-исторические эпохи отличаются, согласно
М., кроме прочего, наличием жизненных доминант, определяющих общий их стиль и
господствующие в них "стили мышления" ("мыслительные позиции").
В этом отношении современная эпоха, по М., - эпоха кризисная. По отношению к
ней можно говорить об исчезновении единого интеллектуального мира с фиксированными
и доминирующими ценностями и нормами. Более того, за рационально организованным
мышлением обнаружилась его подоснова - "коллективное бессознательное".
Обнаружилась несостоятельность одной из основных абстракций европейской
культуры - наличие внеисторического субъекта познания, мыслящего "с точки
зрения вечности", т.е. внешнего беспристрастного и объективного
наблюдателя, выносящего окончательные истинные оценки. Мир, по М., - это мир
разных частных интересов, разных типов и стилей мышления, требующих своего
выражения в системах взглядов и претендующих на статус "единственно верных".
Знание оказывается контекстуально и социально, а в конечном итоге - культурно
обусловленным. История мысли у М. - это история столкновения классовых,
групповых и иных миросозерцаний, стремящихся себя рационально оформить.
Следовательно, необходимо различать различные когнитивные системы по механизмам
их социального обусловливания. Если за естествознанием и математикой еще можно
признать статус объективного знания, то знание социогуманитарное, по М., не
может быть адекватно проанализировано без учета его социальной детерминации.
В общекультурной же рамке обнаруживается обусловленность любого знания: его
параметры зависят от занятой в социокультурном пространстве позиции,
заданного видения ("перспективы"). Анализ возможных
"перспектив" и их соотношения между собой - задача социологии знания.
Однако научное знание, по мысли М., - не единственное духовное образование,
продуцируемое в обществе. Следует выделять особые системы взглядов, которые
обозначаются терминами "идеология" и "утопия" (по сути -
негативный вариант той же идеологии). Изначальный критерий их выделения -
непризнание тех или иных систем взглядов в качестве беспристрастных, оценка
их как ангажированных и противопоставление им иной системы идей. Они не
являются "диагнозами" ситуации, а, согласно М.,
"запускают" определенные системы деятельности. Идеология выражает
такое состояние сознания, когда правящие группы в своем мышлении могут быть
настолько сильно привязаны посредством интересов к определенной ситуации, что
они просто не способны видеть те факты, которые могли бы подорвать их господство.
Утопия же фиксирует то, что "определенные угнетенные группы столь сильно
заинтересованы в разрушении и трансформации данных условий общества, что они
помимо своей воли видят только те элементы в ситуации, которые имеют тенденцию
отрицать ее". Любая идеология есть апология, она ориентирована на сохранение
сложившегося статус-кво. Именно в этом ей противостоит утопия, ориентированная
на будущее, на занятие доминантной позиции в обществе той группой, интересы
которой в ней (утопии) представлены. Приход такой группы во власть превращает
утопию в идеологию. М. различает два типа идеологий. Партикулярные идеологии
отражают интересы отдельных человеческих сообществ с их специфическими
интересами. Они представляют собой сознательные или несознаваемые фальсификации
действительности, основанные на селекции нужных информационных фрагментов.
Адекватное их понимание требует знания психологических механизмов коллективных
действий и представлений. Тотальные идеологии предзадаются сложившейся социальной
системой, естественно складывающейся расстановкой социальных сил и удерживаются
общей рамкой культуры. Они синтезируют и представляют целостное видение перспектив
и обеспечиваются соответствующим понятийным аппаратом, способами мышления
(аналитическими или мифологическими), моделями (схемами) мышления, требованиями
к степени конкретизации видения (универсализм или эмпиризм), онтологическим
обоснованием (возможные способы существования и структурирования). В этом
отношении они - предмет социологии знания. Конечная задача последней - через
критическую работу по обнаружению различных идеологических искажений знания -
реализовать позитивную задачу. Суть последней - удержав многообразие равноправных
и правомерных перспектив (их "реляционность") - осуществить когнитивный
синтез. Реализовать его (и то лишь потенциально) способна единственная, не
вплетенная жестко в сеть социальных интересов и ресурсно (информационно)
обеспеченная для решения подобной задачи, социальная группа - интеллигенция
("социально свободно парящие интеллектуалы"). Синтез предполагает и
наличие реальных механизмов в обществе, позволяющих находить балланс интересов.
Однако кризис системы традиционных западных демократических ценностей при
отсутствии общекультурной доминанты разрушил, по М., этот складывавшийся баланс.
Противостоять полной ценностной дезинтеграции (анархии) и в то же время не впасть
в другую крайность - обеспечения интеграции ценностей через тотальную регламентацию
(диктатуру) - в современном обществе можно, согласно М., лишь на основе
внедрения социальных технологий, направленных на поддержание "достаточного
уровня" рефлексии (критического сознания) и предполагающих целенаправленность
организационных усилий для реализации этой цели. |
|
Марголис
Джозеф |
МАРГОЛИС (Margolis) Джозеф (р. 1924) —
амер. философ, видный представитель «эмерджентного» (от лат. emergo —
появляюсь, возникаю) материализма, одного из направлений в современной
философии сознания. С 1968 — проф. Темплского ун-та (г. Филадельфия). По
мнению М., любая филос. теория оказывается существенно неполной, если она не
дает явного объяснения природы психики и личности и, соответственно, не
влияет на перспективы исторических и поведенческих дисциплин. Он критикует
модели человеческой психики, разработанные представителями различных
направлений «научного материализма» (Г. Фейгл, Р. Рорти, Дж. Смарт, X.
Патнэм, Дж. Фодор и др.), за упрощенчество и редукционизм, за недооценку
специфики и фундаментального значения человеческой культуры. Но он отвергает
и дуализм как способ решения проблемы духовного и телесного, поскольку
неприемлемость физикализма и неадекватность различных вариантов теории
тождества психического и физического, выдвигаемых «научным материализмом», не
исключает правомерности иных материалистических концепций сознания. М.
разработал свою оригинальную концепцию «эмерджентного» материализма, считая,
что без понятий эмерджентности и воплощения нельзя дать адекватное
материалистическое объяснение основным психическим явлениям и сущностям
культуры — личностям, произведениям искусства, артефактам, словам и
предложениям, техническим устройствам и т.д. По его мнению, эмерд-жентные
сущности (свойства) всегда воплощены в материальных системах, образуя особые
качества по отношению к целостной системе, которой они приписываются. М.
исключает правомерность объяснения каждого эмерджентного свойства системы в
терминах свойств ее компонентов и связей между ними, а также возможность
«самосоздания» любой сложной сущности из сущностей предшествующего уровня. Он
допускает существование таких нередуцируемых эмерджентных сущностей культуры,
которые могут быть определены только в интенциональных контекстах. Однако
личности, как и др. культурные сущности, могут существовать, лишь будучи
воплощены в физических или биологических телах и организмах, причем эти
сущности отличаются друг от друга только по функциональным признакам.
Воплощенная сущность, т.о., не является онтологически независимой от
воплощающей сущности. Эти сущности различны, хотя воплощенная сущность всегда
обладает некоторыми из свойств воплощающих сущностей. Поэтому воплощение
включает в себя культурную эмердженцию. Культура — это система, в которой
существовали или существуют личности и результаты их деятельности. Такая
система есть система знаков, обозначающих типы, она управляется правилами, а
ее личности способны использовать язык, вести себя интенционально в
соответствии с правилами, которые они понимают и могут нарушать. М. — сторонник единства естественно-научных
и социогуманитарных дисциплин и считает необходимым сближение различных
филос. школ, в частности аналитической философии с философией сознания и
герменевтикой. Наиболее актуальными, с его т.зр., являются междисциплинарные
исследования процессов эволюции, инноваций, включая научные открытия. Личность и сознание. М., 1986;
Philosophy of Psychology. Englewood — Cliffs (N. J.), 1984. |
|
Марин из
Неаполя |
МАРИН (Μαρίνος) из Неаполя (Сихем в Самарии) (5 в. н.
э.), философ и математик, в 485 на короткое время возглавивший Академию после
Прокла, учеником которого был. Прокл посвятил М. толкование видения Эра из
10-й кн. «Государства» Платона. Между тем, Дамаский в «Жизни Исидора»
критикует его философские позиции. М. написал комментарий к «Филебу», который
сжег, т. к. он оказался вне школьной традиции афинского платонизма. В своем
толковании «Парменида» он не принял концепции генад своих непосредственных
предшественников Сириана и Прокла. Элий (Proleg. 28, 29) приводит высказывание М.:
«Если бы все было математикой!». Единственное сохранившееся сочинение М.,
«Прокл, или О счастье», написанное непосредственно после смерти Прокла,
представляет собой энкомий и философскую оценку учителя. Соч.: Marini
Vita Prodi. Graece et latine. Rec. J. F. Boissonnade. Lpz., 1814; Saffrey H. £>.,
Segonds A. Ph. (edd.). Marinus, Proclus ou Sur le bonheur. P., 2001; Марин. Прокл, или О счастье. Пер. М. Л. Гаспарова, - Диоген
Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М.,
1986, с.
441-454. Лит.: Schissel von Fieschenberg О. Marinos von Neapolis und die
neuplatonischen Tugendgrade. Ath., 1928; Theiler W. Rez.: O. Schissel von
Fieschenberg, - Gnomon 5, 1919, S. 307-317; Sambursky S. Proklos,
Präsident der platonischen Akademie, und sein Nachfolger, der
Samaritaner Marinos, - SHA W (M) 1985, 2 Abhnd., S. 35-51. |
|
Маринетти
Филиппо Томмазо |
МАРИНЕТТИ
(Marinetti) Филиппо Томмазо (1876- 1944) - итальянский поэт и писатель;
основоположник, вождь и теоретик футуризма. Испытал влияние Бергсона, Кро-че
и Ницше (в упрощенно-редуцированном варианте культурного функционирования их
идей в массовом сознании); на уровне самооценки генетически возводил свою
трактовку культуры и искусства к Данте и Э.По. Автор романа "Мафарка-футурист"
(1910), сборника стихов "Зангтум-тум" (1914) и основополагающих манифестов
футуризма: "Первый манифест футуризма" (1909, опубликован в
"Фигаро"; по оценке М. вызванного им резонанса, "бешеной пулей
просвистел над всей литературой"), "Убьем лунный свет" (1909),
"Футуристический манифест по поводу Итало-Турецкой войны" (1911),
"Технический манифест футуристской литературы" (1912),
"Программа футуристской политики" (1913, совместно с У.Боччони и
др.), "Великолепные геометрии и механики и новое численное восприятие"
(1914), "Новая футуристическая живопись" (1930) и др. В 1909-1911
выступил организатором футуристических групп и массовых выступлений сторонников
футуризма по всей Италии. Идейный вдохновитель создания практически всех манифестов
футуризма, подписанных различными художниками, скульпторами, архитекторами,
поэтами, музыкантами и др. В целях пропаганды футуризма посещал различные
страны, в том числе - и Россию (1910, 1914). В отличие от экспрессионизма и
кубизма, эмоционально локализующихся на "минорном регистре восприятия
нового века", футуризм характеризуется предельным социальным оптимизмом,
мажорным восприятием нового как будущего (по оценке М., "конец века"
есть "начало нового"). В этой связи вдохновленный М. программный "Манифест
футуристической живописи" 1910 (У.Боччони, Дж.Северини, К.Карра, Л.Руссоло,
Дж.Балла) формулирует цель футуристического движения как тотальное
новаторство: "нужно вымести все уже использованные сюжеты, чтобы выразить
нашу вихревую жизнь стали, гордости, лихорадки и быстроты". Вектор
отрицания предшествующей традиции эксплицируется в футуризме в принципах
антиэстетизма и антифилософизма, артикулируя само движение как антикультурное:
по словам М., "мы хотим разрушить музеи, библиотеки, сражаться с морализмом".
Радикальное неприятие М. культурного наследия ("музеи и кладбища! Их не
отличить друг от друга - мрачные скопища никому не известных и неразличимых
трупов") конституирует в его программе не только общенигилистическую установку
и экстраполирование пафоса обновления на позитивную оценку войны как
"естественной гигиены мира" (агитировал за вступление Италии в
Первую мировую войну и сам ушел добровольцем на фронт), но и идею "великого
футуристического смеха", который "омолодит лицо мира" (ср. с
тезисом Маркса о том, что "смеясь, человечество прощается со своим прошлым";
статусом смеха у Кафки; живописным воплощением аллегории смеха в художественной
практике футуризма: например, "Смех" УБоччони). В означенном аксиологическом
русле М. предлагает упразднить театр, заменив его мюзик-холлом, который противопоставляет
морализму и психологизму классического театра "сумасброднофизическое";
в рамках этого же ценностного вектора футуризма формируется его программная
установка на примитивизм как парадигму изобразительной техники (краски
"краааасные, которые криииичат"), а также педалированная интенция
М. на шокирующий эпатаж (известные формулировки: "без агрессии нет
шедевра", следует "плевать на алтарь искусства" и т.п.). Продолжая
линию дадаизма (см. Дадаизм), М. выдвигал идею освобождения сознания от логико-языкового
диктата: "нужно восстать против слов", что возможно лишь посредством
освобождения самих слов от выраженной в синтаксисе логики ("заговорим
свободными словами"), ибо "старый синтаксис, отказанный нам еще
Гомером, беспомощен и нелеп". - "Слова на свободе" М. (ср. со
"словом-новшеством" в русском кубо-футуризме: Крученых и др.) - это
слова, выпущенные "из клетки фразы-периода. Как у всякого придурка, у
этой фразы есть крепкая голова, живот, ноги и две плоские ступни. Так еще
можно разве что ходить, даже бежать, но тут же, запыхавшись, остановиться...
А крыльев у нее не будет никогда". Следовательно, по М., необходимо уничтожение
синтаксиса ("ставить" слова, "как они приходят на ум") и
пунктуации ("сплетать образы нужно беспорядочно и вразнобой", забрасывая
"частый невод ассоциаций... в темную пучину жизни" и не давая ему зацепиться
"за рифы логики"). Согласно М., именно логика стоит между человеком
и бытием, делая невозможной их гармонизацию; в силу этого, как только
"поэт-освободитель выпустит на свободу слова", он "проникнет в
суть явлений", и тогда "не будет больше вражды и непонимания между людьми
и окружающей действительностью". Под последней М. понимает, в первую
очередь, техническое окружение, негативно воспринимаемое, по его оценке, в
рациональности традиционного сознания: "в человеке засела непреодолимая
неприязнь к железному мотору". А поскольку преодолеть эту неприязнь, по М.,
может "только интуиция, но не разум", - он выдвигает программу
преодоления разума: "Врожденная интуиция - ...я хотел разбудить ее в вас
и вызвать отвращение к разуму", - "вырвемся из насквозь прогнившей
скорлупы Здравого Смысла", и тогда, "когда будет покончено с
логикой, возникнет интуитивная психология материи". - Результатом отказа
от стереотипов старой рациональности должно стать осознание того, что на
смену "господства человека" настанет "век техники". Техническая
утопия М. предполагает финальный и непротиворечивый синтез человека и машины,
находящий свое аксиологическое выражение в оформлении новой мифологии
("на наших глазах рождается новый кентавр - человек на мотоцикле, - а
первые ангелы взмывают в небо на крыльях аэропланов"). В этом контексте машина
понимается М. как "нужнейшее удлинение человеческого тела" (ср. с базовой
идеей философии техники о технической эволюции как процессе объективации в
технике функций человеческих органов). В соотношении "человек - машина"
примат отдается М. машине, что задает в футуризме программу антипсихологизма.
По формулировке М., необходимо "полностью и окончательно освободить литературу
от собственного "я" автора", "заменить психологию
человека, отныне исчерпанную", ориентацией на постижение "души неживой
материи" (т.е. техники): "сквозь нервное биение моторов услышать дыхание
металлов, камня, дерева" (ср. с идеей выражения сущности объектов в позднем
экспрессионизме). В этом аксиологическом пространстве оформляются: парадигмальные
тезисы М. относительно основоположения нового "машинного искусства"
("горячий металл и... деревянный брусок волнуют нас теперь больше, чем
улыбка и слезы женщины"); предложенная М. программа создания
"механического человека в комплекте с запчастями", резко
воспринятая традицией как воплощение антигуманизма; получившая широкий
культурный резонанс и распространение идея человека как "штифтика"
или "винтика" в общей системе целерационального взаимодействия,
понятой М. по аналогии с отлаженной машиной - "единственной учительницей
одновременности действий" (ср. с образом мегамашины у Мэмфорда), - в отличие
от воплощающей внеморальную силу новизны выдающейся личности, персонифицирующейся
у М. в образе вымышленного восточного деспота - Мафарки (роман "Мафарка-футурист"),
представляющего собой профанированный вариант ницшеанского Заратустры - вне
рафинированной рефлексивности и литературно-стилевого изыска Ницше. Парадигма
нивелировки индивида как "штифтика" в механизме "всеобщего
счастья" оказала влияние на формирование идеологии всех ранних базовых
форм тоталитаризма от социализма до фашизма. В 1914-1919 М. сблизился с
Б.Муссолини; с приходом фашизма к власти М. получает от дуче звание академика,
а футуризм становится официальным художественным выражением итальянского
фашизма (тезис М. о доминировании "слова Италия" над "словом Свобода";
"брутальные" портреты Муссолини авторства У.Боччони; нашумевшая
картина Дж.Северини "Бронепоезд", воплощающая идею человека как
"штифтика" в военной машине; программная переориентация позднего
футуризма на идеалы социальной стабильности, конструктивной идеологии и
отказа от "ниспровергания основ": см. у М. в манифесте 1930 -
"одна лишь радость динамична и способна изображать новые формы").
М. оказал значительное влияние на становление модернистской концепции художественного
творчества: его программа презентации "интуитивной психологии материи"
в "лирике состояний" находит свое воплощение - в рамках футуризма -
в динамизме и дивизионизме Дж.Балла и У.Боччони и в симультанизме Дж.Северини,
позднее - в программе "деланья вещей" в искусстве pop-art и в традиции
"ready made"; программное требование М. "вслушиваться в пульс
материи" инспирирует в авангарде "новой волны" линию arte povera,
ориентированную на моделирование "естественных сред". Выступления
М. против станковой живописи (в частности, высказанная им идея фресок,
создаваемых с помощью проектора на облаках) фундирует собой эстетическую
программу и художественную технику "невозможного искусства". |
|
Маритен
Жак |
МАРИТЕН
(Maritain) Жак (род. 18
нояб. 1882, Париж – ум. 29 апр. 1973, Тулуза) – фр. религиозный
философ, ведущий представитель неотомизма, оказавший заметное влияние на
эволюцию социальной доктрины католицизма;
с 1913 по 1940 – профессора Institut catolique (Париж), до 1944 – в Institut d'etudes
medievales в Торонто
(Канада), с 1945 по 1948 – франц. посол в Ватикане, позже – доцент в
Принстонском ун-те (США). Указал путь через Декарта, Лютера, Руссо и
критицизм назад, за пределы «современного», путь к Фоме Аквинскому. Маритен является
вождем неотомизма. Последователь Л. Бергсона и Ш. Пеги. Романтический христианский
утопизм последнего стал точкой философствования М, поставившего задачей новое
осмысление филос. системы Фомы Аквинского, где значительную роль должны
сыграть экзистенциальная философия (прежде всего философия жизни и
персонализм), примирение благодати и природы, веры и разума, теологии и
философии. Развиваемая М. концепция «интегрального гуманизма» — это
своеобразное учение о человеческой личности и ее свободе, о «трансцендентных
основаниях» жизни и культуры и вместе с тем программа перестройки зап. общества.
Основные идеи «интегрального гуманизма» состоят в следующем: признание
личностного начала высшей ценностью и личностная ориентированность
общественной жизни; принцип коммунаторности, единения людей на основе общего
блага; христианская «теистическая направленность» предполагаемых
преобразований. Программа «интегрального гуманизма» М. подготовила платформу
католического обновления, начавшегося после II Ватиканского собора
(1962—1965). Осн. его произв.: «Antimoderne», 1922; «Trois reformateurs», 1925 (Лютер, Декарт, Руссо); «Religion et culture», 1930; «Le Docteur Angelique» (o Фоме Аквинском), 1930; «Distinguer pour unir ou Les degres du savoir», 1932; «Humanisme integral», 1936; «La philosophic bergsonienne», 1914;
«Raison et raisons essais detaches», 1947; «De Bergson д Thomas d'Aquin», 1944; «Court traite de l'existence et de l'existant», 1947; «L'Homme et
l'etat», 1953. Философ
в мире. М., 1994; Знание и мудрость. М., 1999; Cfeuvres 1912—1939. Paris,
1975; Humanisme integral. Paris, 1968; Religion et culture. Paris, 1991.; Губман Б.Л. Кризис современного неотомизма. Критика неотомистской концепции Ж. Маритена. М., 1983; Phelan
G.B. Jacques Maritain. New York, 1937. |
|
Марк
Аврелий Антонин |
МАРК АВРЕЛИЙ АНТОНИН (Marcus Aurelius Antoninus) (род. 26 апр. 121, Рим – ум. 17 марта 180,
Виндобона, ныне Вена) – рим. император из династии Антонинов, философ,
представитель позднего стоицизма, последователь Эпиктета. Он был императором, преемником Антонина Пия, которому
доводился приемным сыном. После смерти оставил философское сочинение под
названием «Наедине с собой» (или «К самому себе»). Это произведение
представляет собой записки, не предназначенные для публикации, своего рода
размышления, которыми он делится сам с собой, размышления о жизни. В них он
обращается к самому себе, пытаясь осознать окружающую жизнь. В центре его
антиматериалистического учения стоит частичное обладание человеком своим
телом, душой и духом, носителем которых является благочестивая, мужественная
и руководимая разумом личность – владычица (правда, только над духом),
воспитатель чувства долга и обитель испытующей совести. Посредством духа все
люди принимают участие в божественном и этим создают идейную общность,
преодолевающую все ограничения. В Марке Аврелии трагически сочетались
мужество и разочарованность. Марк Аврелий в основном стоит на
позициях стоицизма, и главное, что он излагает в своих записках, - это
этическое учение, оценка жизни с философско-нравственной стороны и советы,
как к ней относиться. В своих основных положениях Марк Аврелий не оригинален
и следует в основном за Эпиктетом. Прежде всего он осознает
бренность жизни, в которой мы живем. Свою оценку Марк Аврелий выводит из
понимания времени: «Время есть река, стремительный поток. Лишь появится что-нибудь,
как уже проносится мимо, но проносится и другое, и вновь на виду первое»
[Римские стоики. Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. М., 1995. С. 294]. Время
беспредельно, и перед этой беспредельностью длительность каждой человеческой
жизни - это какой-то миг, и жизнь по отношению к этой беспредельности крайне
ничтожна. «Ничтожна жизнь каждого, ничтожен тот уголок земли, где он живет»
[Там же. С. 285]. «Помни также, что каждый живет лишь настоящим ничтожно
малым моментом» [Там же]. Марк Аврелий делает вывод и о
краткости памяти, которая остается после смерти человека. «Все кратковременно
и вскоре начинает походить на миф, а затем предается и полному забвению. И я
еще говорю о людях, в свое время окруженных необычайным ореолом. Что же
касается остальных, то стоит им испустить дух, чтобы «не стало о них и
помину». Что же такое вечная слава? Сущая суета» [Там же. С. 292]. Оценивая свою жизнь, жизнь
прошлых времен, жизнь настоящую, Марк Аврелий делает вывод, что она довольно
однообразна и не дает ничего нового, все одно и то же, все повторяется.
«Окинь мысленным взором хотя бы времена Веспасиана, и ты увидишь все то же,
что и теперь: люди вступают в браки, взращивают детей, болеют, умирают, ведут
войны, справляют празднества, путешествуют, обрабатывают землю, льстят,
предаются высокомерию, подозревают, злоумышляют, желают смерти других, ропщут
на настоящее, любят, собирают сокровища, добиваются почетных должностей и
трона. Что сталось с их жизнью? Она сгинула. Перенесись во времена Траяна: и
опять все то же. Опочила и эта жизнь. Взгляни равным образом и на другие
периоды времени в жизни целых народов и обрати внимание на то, сколько людей
умерло вскоре по достижении заветной цели и разложилось на элементы» [Там
же]. В этих строках, проникнутых
острым пессимизмом, отразилась пессимистическая настроенность целой эпохи, в
которой жил Марк Аврелий. Это была эпоха разочарованности и усталости,
охвативших целые народы. В то же время мировоззрение
Марка Аврелия отличает одна примечательная особенность. Его пессимистическая
оценка жизни и общей направленности всех деяний человека не определяет тех
выводов, которые он делает из всего этого. Выводы совсем не пессимистические,
как можно было бы ожидать и как часто происходит у людей, пессимистически
относящихся к жизни, а именно стремление к бездействию или нарушениям
нравственных законов, стремление предаваться только наслаждению. Своему
пессимизму он сам противопоставляет идеал человека, который олицетворяет все
положительное в личности, а именно - мужественность, зрелость, преданность
интересам государства. В этой суетной жизни, которую он обрисовал, есть, по
его мнению, нравственные ценности, к которым следует стремиться, это -
справедливость, истина, благоразумие, мужество. К истинным ценностям он также
относит общеполезную деятельность, гражданственность, которые противостоят
таким мнимым, по его мнению, ценностям, как «одобрение толпы, власть,
богатство, жизнь, полная наслаждений» [Там же. С. 284]. Марк Аврелий смотрит на человека
как на сложное социальное существо, которое, с одной стороны, живет
настоящим, суетным, а с другой - занимается деятельностью, которая преследует
долговременные цели. Поэтому он осуждает того, кто свои дела не согласовывает
с высшими целями, под которыми он понимает благо государства. Этому он дает
философское обоснование. Несмотря на текучесть всего происходящего,
существует нечто целое, которое управляется логосом, разумом. Этим разумом
люди объединены, в каждом человеке живет частица этого разума, которому он
должен поклоняться и служить. «Тот, кто отдал предпочтение своему духу, гению
и служению его добродетели, не надевает трагической маски, не издает
стенаний, не нуждается ни в уединении, ни в многолюдстве. Он будет жить - и
это самое главное, - ничего не преследуя и ничего не избегая. Его совершенно
не беспокоит, в течение большего или меньшего времени его душа будет
пребывать в телесной оболочке... Ведь всю свою жизнь он только и думает о
том, чтобы не дать своей душе опуститься до состояния, недостойного разумного
и призванного к гражданственности существа» [Там же]. Этот гений никогда не
«побудит тебя преступить обещание, забыть стыд, ненавидеть кого-нибудь,
подозревать, клясть, лицемерить, пожелать чего-нибудь такого, что прячут за
стенами и замками» [Там же]. Поэтому Марк Аврелий считает,
что несмотря на тщетность жизни человека перед ним стоят высокие нравственные
задачи, которые он, повинуясь долгу, должен выполнять. И в этом ему помогает
философия. «Философствовать же - значит оберегать внутреннего гения от
поношения и изъяна, добиваться того, чтобы он стал выше наслаждений и
страданий, чтобы не было в его действиях ни безрассудства, ни обмана, ни
лицемерия, чтобы не касалось его, делает или не делает что-либо его ближний,
чтобы на все происходящее и данное ему в удел он смотрел, как на проистекающее
оттуда, откуда изошел и он сам, а самое главное - чтобы он безропотно ждал
смерти, как простого разложения тех элементов, из которых слагается каждое
живое существо» [Там же. С. 28]. |
|
Маркес
Габриэль Гарсиа |
МАРКЕС Габриэль Гарсиа (р. 1928) - колумбийский писатель.
Лауреат Нобелевской премии по литературе (1982). Учился в иезуитской школе
(Сан-Хосе, 1940-1942) и на юридическом факультете Национального университета
в Боготе (1947-1950). Основные произведения: "Сто лет одиночества" (1967),
"Осень патриарха" (1975), "История одной смерти, о которой
знали заранее" (1981), "Палая листва" (1955), "Полковнику
никто не пишет" (1958), "Недобрый час" (1962) и др. Книга М. "Сто
лет одиночества" характеризовалась критиками как "роман-миф",
выступающий (в соответствии с рядом различных версий его интерпретации) в
качестве: трагедии античного типа с сюжетными ходами рока (см. Судьба) и
инцеста; библейского мифа с описанием сотворения мира, казнями и бедствиями
египетскими, апокалипсисом; мифа психоаналитического типа; мифа, подчиненного
культурным структуралистским кодам и т.д. В контексте трансформационных
процессов на посткоммунистическом пространстве советского типа особый интерес
приобретают сюжеты творчества М., связанные с реконструкцией образов
"всенародно избранных" ("обожаемых-всеми-без-исключения-простыми-людьми")
авторитарных политических лидеров. Описывая судьбу последних, М. обращал
особое внимание на: 1) их харизматическую аморальность ("когда его оставили
наедине с отечеством и властью, он решил, что не стоит портить себе кровь крючкотворными
писаными законами, требующими щепетильности, и стал править страной как Бог на
душу положит, и стал вездесущ и непререкаем, проявляя на вершинах власти осмотрительность
скалолаза и в то же время невероятную для своего возраста прыть, и вечно был
осажден толпой прокаженных, слепых и паралитиков, которые вымаливали у него щепотку
соли, ибо считалось, что в его руках она становится целительной, и был окружен
сонмищем дипломированных политиканов, наглых пройдох и подхалимов, провозглашавших
его коррехидором землетрясений, небесных знамений, високосных годов и прочих
ошибок Господа..."); 2) присущую им ориентацию на процедуры удержания-любой-ценой
власти в собственной стране, а не на отстраивание автономных и самодостаточных
институтов гражданского общества ("...о том же свидетельствовали жестокие
методы его правления, его постоянная мрачность и то злорадство, с которым он
продал иностранной державе наше море и приговорил нас к жизни в этой
бескрайней пустынной долине, покрытой шершавой пылью, подобной мертвой пыли
Луны..."); 3) их принадлежность к деклассированным, маргинальным социальным
слоям ("... что же касается его происхождения, то, хотя все печатные упоминания
об этом были изъяты, люди были убеждены, что родом он с плоскогорья, о чем
свидетельствовала его ненасытная жажда власти, отличавшая уроженцев
плоскогорья"); 4) их атрибутивная склонность к антиправовым и силовым
процедурам разрешения внутриполитических и общественных конфликтов - в том
числе и внутри собственного окружения ("...так сподвижники и уходили
один за другим, а он с грустью говорил о каждом: "Бедняга!" - и
разве можно было подумать, что он имеет хоть малейшее отношение ко всем этим
внезапным бесславным смертям?"); 5) их страсть к помпезности и гигантомании
в рамках осуществления безудержной саморекламы ("...он ...построил самый
большой в карибских странах крытый стадион с прекрасной гандбольной площадкой,
обязав нашу команду играть под девизом "Победа или смерть"); 6)
традиционная для них готовность разговаривать с низшими слоями общества на
соответствующе-примитивном языке, реально результирующаяся в отторжении от
себя и собственной системы личной власти подавляющего большинства образованных
людей ("...столь же просто и скоро, как в делах житейских, вершил он суд
и расправу в делах общественных, приказывая мяснику публично отрубить руку
проворовавшемуся казначею, с видом знатока судил обо всем на свете, даже о
помидорах и о почве, на которой они выросли; распробовав помидор с чьего-либо
огорода, он авторитетно заявлял сопровождавшим его агрономам: "Этой
почве недостает навоза, и не какого-нибудь там, а помета ослов. Не ослиц! Я
распоряжусь, чтобы завезли за счет правительства!" И со смехом шел
дальше"); 7) их неприязнь к независимым судебной и законодательной ветвям
власти ("...сон оказался в руку, ибо на той же неделе было совершено
бандитское нападение на сенат и на верховный суд при равнодушном попустительстве
вооруженных сил; нападавшие разрушили до основания нашу национальную святыню
- здание сената, в котором герои борьбы за независимость провозгласили некогда
суверенитет нашей страны; пламя пожара бушевало до поздней ночи, его хорошо
было видно с президентского балкона, однако президента нимало не опечалила
весть, что от исторического здания не осталось даже фундамента, что саму
память об этом здании кто-то постарался вырвать с корнем; нам было обещано примерно
наказать преступников, которые так никогда и не были найдены... что же касается
сенаторов и служителей правосудия, то он и не думал утаивать от них дурные предзнаменования
своего сна, а, напротив, был рад случаю, оправдывая свои действия полученным во
сне предостережением разогнать законодателей и разрушить судебный аппарат
старой республики..."); 8) карнавализация ими публичной жизни,
направленная трансформация последней в "спектакль одного актера" ("...жизнь
превратилась в каждодневный праздник, который не нужно было подогревать
искусственно, как в прежние времена, ибо все шло прекрасно: государственные
дела разрешались сами собой, родина шагала вперед, правительством был он
один, никто не мешал ни словом, ни делом осуществлению его замыслов; казалось,
даже врагов не оставалось у него, пребывающего в одиночестве на вершине
славы"). В социально-гражданственном измерении творчество М.
репрезентирует извечное и пафосное противостояние носителей либерально-демократических
ценностей, с одной стороны, и диктаторов, никогда не имеющих конкретной национальности
и опирающихся на низменные инстинкты и непросвещенность разобщенных и искусственно
расчеловеченных людей, - с другой. |
|
Марков
Борис Васильевич |
МАРКОВ Борис Васильевич (р. 1946) —
специалист в области филос. и культурной антропологии, методологии и теории
познания. Окончил филос. факультет (1971) и аспирантуру (1974) ЛГУ. Преподает
там же с 1974. Доктор филос. наук (1987), проф. (1989), зав. кафедрой
онтологии и теории познания (1989—1994), филос. антропологии (с 1994). Автор
многих статей и четырех монографий. Первые курсы лекций и научные работы М.
посвящены теории познания и методологии науки. Комбинируя различные критерии
оценки познавательного значения, М. предложил эффективную семиотическую
модель проверяемости научного познания. В дальнейшем, под влиянием интереса к
истории науки, он дополнил список логико-эпистемологических критериев
социокультурными нормами рациональности. В 1990-е гг. М. обратился к
исследованию истории соотношения человеческой духовности и телесности на
основе методов феноменологии, герменевтики и психоанализа. Возрастающий
интерес к процессу цивилизации привел М. к изучению структур повседневности.
Антропогенное воздействие труда, власти, социальных ин-тов и дисциплинарных
пространств, техники, архитектуры, массового искусства осуществляется иначе,
чем порядок идей. Кроме «понимания» М. указал на иные формы опыта признания
другого, и прежде всего на такие, как привычка, складывающаяся благодаря
повторению. В последних работах М. техники самосознания и «заботы о себе»,
практики понимания и коммуникации, моральное сознание и рациональность
изучаются как способы повышения самоконтроля и самодисциплины человека,
обитающего в том или ином культурном пространстве. Современность — «место
истины» диагностируется М. как утрата зависимости человека от «почвы и
крови», как глобализация виртуальной реальности, которая имеет
транснациональный и транскультурный характер и уже не регулируется гос-вом.
Цена, которую приходится платить за такую «эмансипацию», оказывается весьма
значительной, и философия должна искать новые формы противодействия
бестиализации человека. Критерии оценки познавательного значения
научных гипотез // Философские науки. 1976. № 6; Эмпирическая проверяемость
знания в историко-научных реконструкциях // Методологические проблемы
историко-научных исследований. М., 1982; Проблема проверяемости и обоснования
научного знания. Л., 1983; Наука и ценности. Л., 1990 (ред.); Разум и сердце.
СПб., 1993; Наука и альтернативные формы знания. СПб., 1994 (ред.); Стратегии
ориентации в постсовременности. СПб., 1996 (ред.); История современной
зарубежной философии. СПб., 1997 (в соавт.); Основы онтологии. СПб., 1997
(ред); Своеобразие исторического // Риккерт Г. Границы естественно-научного
образования понятий. СПб., 1997; Понимание, объяснение, оценка в философии
истории 20 в. // Клио. Межвузовский журнал. СПб., 1997; Другая свобода //
Вестник СПбГУ. 1998. Вып. 3; Очерки феноменологической философии. СПбГУ,
1998. (ред.); Понятие жизни в философской антропологии // Вестник СПбГУ.
1998. Вып. 4; Философская антропология. СПб., 1998; Герменевтика и
деконструкция. СПб., 1999 (ред.); Моральное сознание и практическое
ориентирование // Перспективы практической философии на рубеже веков. СПб.,
1999; Ответственность интеллигенции // Вехи «Вех». СПб.; Париж, 1999;
Философия языка // Метафизические исследования. СПб., 1999; Храм и рынок.
Человек в пространстве культуры. СПб., 1999; Communication and Argumentation
// Cognitio humana. Dynamik des
Wissens und der Werte. Leipzig, 1996; Hat Freiheit Zukunft? // Berliner
Debatte INITIAL. Zeitschrift fur sozialwissenschaftliche Diskurs № 4, 1998;
Law and Economic Order in the Structures of Russian Everyday Life // The
Social Market Economy / Ed. P. Koslowski. Springer, 1998. |
|
Маркс
Карл Генрих |
Философские взгляды Маркса
начали формироваться в конце 30-х годов XIX в. в Берлинском университете, где
господствовала философия Гегеля. Ещё студентом примкнул к младогегельянцам, к‑рые
делали из философии Гегеля радикальные революционные выводы. Обычно говорят о
«двух М.»: ранний М. – теоретик, писавший интересные работы по проблеме
отчуждения, по проблемам сознания, идеологии, предсказывавший, что в будущем
не будет естественных и обществ. наук, а будет одна наука – наука о человеке;
и поздний М., практик, который решил осчастливить человечество, указав
путь достижения счастливого будущего в исторически определённый период. Путь
этот – пролетарская революция, уничтожение частной собственности и построение
царства свободы на основе высокоразвитой экономики. Утопический идеализм М.
само по себе безобидное и в теоретическом плане интересное явление. Хуже,
когда он начинает применяться на практике и насильно навязываться как
единственно правильное учение к. – н. народу. К сожалению, прав оказался
рус. философ – анархист М. Бакунин, когда писал в 19 в., что если люди,
разделяющие идеи марксизма, придут к власти в какой‑нибудь стране, то
народ этой страны окажется самым несчастным народом в мире. Осн. соч.:
«Экономическо‑философские рукописи 1844 г.», «Манифест
коммунистической партии», «Капитал», «Критика Готской программы» и др. Младогегельянцы, не во всем
соглашались с Гегелем, но тем не менее хотели упразднить самоотчуждение человека
и освободить человечество посредством исторического и диалектического
процесса самопознания. Они рассматривали религию как форму отчуждения. Под
влиянием идей Фейербаха Маркс отверг гегелевское понятие Абсолютного Духа и в
центр своей философии стремился поставить человека и человеческое сознание.
Социальные отношения, которые связаны с наемным трудом, производством,
торговлей и деньгами, он стал рассматривать как определяющие силы
человеческой истории. Общественные отношения, которые возникают на определенной
стадии развития общества, говорит Маркс, соответствуют стадии развития
материальных сил производства, и все это в комплексе составляет экономическую
структуру общества. Он писал: «Способ производства материальной жизни
обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Не
сознание людей определяет их бытие, а наоборот, их общественное бытие
определяет их сознание» [Введение к критике политической экономии//Маркс К.,
Энгельс Ф. Сочинения. Т. 13. С. 7]. Маркс полагает, что общество в
своем развитии достигает такой точки, когда материальные силы производства
вступают в конфликт с существующими производственными отношениями, в
результате чего они становятся тормозом развития общества. Это порождает
социальные революции. В то же время Маркс подчеркивает, что ни один порядок
не исчезнет, прежде чем все производительные силы не будут развиты, и новые
более высокие производственные отношения никогда не появятся, прежде чем
материальные условия существования не созреют в недрах старого общества. Под
производственными отношениями он понимает отношения, которые возникают между
землевладельцем и наемным работником, владельцем завода и рабочим и т.д. Они
составляют экономическую структуру общества и являются основой политической,
моральной и духовной надстройки. Основной вывод Маркса состоит в
утверждении, что любая сторона жизни определяется материальными факторами.
Как Гегель верил в прогресс Духа в направлении более высокого самосознания,
так Маркс верил в поступательное развитие человеческой материальной жизни и
человеческой природы. Внимание Маркса было направлено
на материальную и физическую, а не на духовную реальность. Он выделяет
рабочий класс как силу, которая воплощает в себе нищету и крайнее
самоотчуждение. По Марксу, сущность человека состоит именно в том, чтобы
создавать вещи, но только не в рамках частной собственности. Поэтому условия
существования человека должны быть изменены посредством упразднения частной
собственности и системы труда, при которой происходит эксплуатация человека
человеком. Все это должно привести к
освобождению людей от условий, при которых они все видят все под углом зрения
рынка. Маркс развил свою экономическую
теорию в «Капитале». Он стремился показать, что капитализм несет в себе самом
семена собственного разрушения. Он утверждал, что капиталисты создают свою
прибыль на основе прибавочной стоимости, которую они присваивают за счет
рабочих. Поэтому по мере развития капитализма соотношение труда и капитала
постоянно меняется. А это значит, что доля прибыли должна в конце концов
падать, что ведет к подрыву капитализма. Это концепция Маркса не
выдержала проверки временем. Тем не менее марксистская теория имеет много
заслуг. Прежде всего марксизм представил детальную и оригинальную критику
капитализма, которая в основном является действенной и по сей день. Он указал
новые перспективы общества, которые преодолевают пороки капитализма и
находятся в русле социалистических традиций интеллектуальной мысли. Марксизм
поднял и развил глубокое понимание человеческой природы и свободы. Большое влияние оказал марксизм
на многих мыслителей XIX и XX вв. В XX в. под влиянием марксизма возникло
философское течение под названием неомарксизм (Франкфуртская школа), которое
интерпретировало идеи Маркса под углом зрения современности. |
|
Маркузе
Герберт |
МАРКУЗЕ (Marcuse) Герберт (род. 19 июля 1898, Берлин – ум. 29 июля
1979, Штарнберг) – нем.-амер. социолог и философ; видный представитель неофрейдизма, один из основателей
франкфуртской школы. С 1934 – в США. Полагал, что развитие науки и
техники позволяет господствующему классу сформулировать через механизм
удовлетворения потребностей новый тип «одномерного человека» с пониженным
критическим отношением к обществу. Движущей силой социальных изменений в этих
условиях становится отказ от всех социальных ценностей, а инициатива
революционных изменений переходит к «аутсайдерам» (люмпены, безработные), а
также к радикальным интеллигентам и студентам. За свои критические взгляды
приобрел в 60-х годах известность среди «новых левых», однако позже отказался
от наиболее нигилистических положений своей концепции. Осн. соч.: «Eros and
civilization», 1955; «One-dimensional man», 1964; «Das Ende der Utopie», 1967; «Psychoanalyse und Politik», 1980. В 1930-х гг. появились
его первые работы: «Онтология Гегеля» и «Разум и революция». М. стремился
связать Г.В.Ф. Гегеля не столько с К. Марксом, сколько с В. Дильтеем. Трактат
«Разум и революция» был посвящен обоснованию тезиса о революционном характере
филос. системы Гегеля. Франкфуртский ин-т социальных исследований пытался
разработать всеохватывающую социальную теорию, применяя метод эмпирических
исследований. Однако М. остался верен чисто теоретическому подходу к
историческим и социальным темам. Уже в работах
1930-х гг. он отмечает подавление инстинктов, сексуальное вытеснение как один
из существующих атрибутов эксплуататорского строя. Следствием дуалистической
метафизики он считает не только экономическую, но и сексуальную нищету,
подавление тела. У М. появляется легкая критика гедонизма и материализма 18
в. Просветители, по мнению М., утверждали право на физическое наслаждение,
лишенное к.-л. чувства страха или вины. У раннего М. обнаруживается критика
буржуазной концепции любви, которая в капиталистическом обществе потеряла
свой спонтанный характер игры, став предметом привычки и долга. Любовь в этом
обществе получила чисто гигиенические функции и сделалась средством
поддержания физического и психического здоровья, необходимого для
эффективного функционирования производственного механизма. Подавление
сексуальности, по М., не просто зло капитализма, но необходимое условие
поддержания социального строя. Более того, развитие свободного эротизма
способно нарушить функционирование капиталистической системы. Именно поэтому господствующий
класс всегда стремился к утверждению протестантской этики. «Эрос и
цивилизация» (1955) — центральное произведение М., в котором он показал себя
крупным представителем радикальной традиции в психоанализе. М. считал, что
неофрейдисты пришли к оптимистическим выводам, просто отбросив все неприятные
факты, открытые психоанализом: значение сексуальности, функции
бессознательного, роль инфантильного опыта. Репрессивная цивилизация, по М.,
не только порабощает человека, но и таит в себе угрозу саморазрушения, гибели
человечества. Если вся история цивилизации есть диалектическая борьба двух
извечных сил, то поражение смерти может быть достигнуто только через
освобождение Эроса. М. был связан с
движением «новых левых», но позже отошел от них, внес коррективы в свои
теоретические исследования. М. пытался продумать также
философско-антропологические проблемы, стремясь понять природу человека и его
предназначение. Одномерный
человек. Киев, 1994; Эрос и цивилизация. М., 1998.; Баталов Э.Я. Философия
бунта. М., 1973; Романов И.Ю. Психоанализ: культурная практика и
терапевтический смысл. М., 1994. |
|
Марсель
Габриэль Оноре |
МАРСЕЛЬ
(Marcel) Габриель Оноре
(род. 7 дек. 1889, Париж – ум. 9 окт. 1973, там же) – франц. философ, драматург,
литературный, театральный и музыкальный критик; профессор в Сорбонне, глава христ.
экзистенциализма во Франции. Испытал влияние И. Канта, Ф.В.Й. Шеллинга, С. Кьеркегора, А.
Бергсона, англ. и амер. мыслителей кон. 19 — нач. 20 в. (Дж. Ройс, Ф. Брэдли,
У. Джеймс). В центре его внимания — экзистенциальный опыт человека. В
объяснении взаимоотношения человека с миром он выступает против «духа
абстракций», идеализма, психологизма, ориентируясь на феноменологию Э.
Гуссерля как одно из ведущих направлений философии 20 в.; подлинной связью человека
с миром признает ощущение и видит в нем ключевую проблему философии. М.
формулирует одну из важнейших тем феноменологической философии: тему
собственного тела человека, которое является экзистенциальной опорой индивида
в мире, безусловным показателем его причастности миру (в этом русле будут
развивать свое экзистенциальное учение М. Мерло-Понти и Ж.П. Сартр); проводит
резкое различие между миром «объективности» (мир физических объектов) и миром
«существования» (личностное присутствие в мире), где преодолевается дуализм
субъекта и объекта. Экзистенция тесно сопряжена с бытием, т.к. только в бытии
она может мыслиться нами; бытие в силу своей открытости, расположенности —
это также идеальная сфера интерсубъективности, место встречи субъектов,
отмеченной печатью любви. Нервом любви является смертность человека,
ближнего, отсюда ее важнейшее определение: «любить — значит говорить другому:
ты не умрешь». Вместе с тем онтология — это место встречи личностного и
трансцендентного: главным для М. является священный характер личностной
воплощенности, свидетельствующий о невозможности превращения тела в объект.
Философ верит в сакральность человеческого существования, в священный
характер всего живого. В сфере общения между людьми отдает приоритет
искусству — музыке, театру, художественной литературе; идеализирует
патриархальные отношения Средневековья, критикует мир техники как «разбитый
мир», способствующий превращению человека в вещь. С 1950 г. Марсель отказывается от выражения «христ.
экзистенциалист» и делает попытку заменить его термином «неосократик».
Марсель проводит различие (по существу) между проблемой как чем-то
анализируемым помимо меня и мистерией как тем, во что я вовлечен. С помощью майевтики он пытался помочь тому,
чтобы человек трансцендировал мир проблем путем осуществления взгляда: «Бытие
есть мистерия». Осн. произв.: «Position et
approche du mystere ontologique», 1933; «Etre et avoir», 1935; «Du refus а Г invocation», 1940; «Homo viator», 1945; «La metaphysique de Royce», 1945; «Les
hommes contre Phumain», 1951; «Le mystere de l'etre», 2 vol., 1951. Быть и иметь. Новочеркасск, 1994;
Трагическая мудрость философии. М., 1995; Пьесы. М., 2002; Journal
metaphysique. Paris, 1914—1923, 1927; Homo viator. Paris, 1945; Les homme
contre l'liumain. Paris, 1951; Le Mistere de l'Etre. 2 vol. Paris, 1951.; Тавризян Г.М. Габриэль Марсель: философский опыт о человеческом достоинстве // Габриэль Марсель. Трагическая мудрость философии. М., 1995. |
|
Марсилий
из Ингена |
МАРСИЛИЙ ИЗ ИНГЕНА (Marsilius von Inghen) (род. 1330, Инген, близ
Нимвегена – ум. 20 авг. 1396, Гейдельберг) – нем. представитель поздней
схоластики; в 1367 – 1371 – ректор Парижского ун-та, первый ректор
основанного в 1386 Гейдельбергского ун-та. Как теолог близок к Фоме
Аквинскому, как философ – к Уильяму Оккаму, а как натурфилософ, или
естествоиспытатель, – к Буридану. |
|
Мартино
Джеймс |
МАРТИНО (Martineau) Джеймс (род. 21 апр. 1805, Норвич – ум. 11 нояб.
1900, Лондон) – англ, философ; ученик Тренделенбурга. Исходил из дуализма
между явлениями психического мира и волевыми проявлениями мира реального;
причинно выводимы лишь последние, которые сводятся в конце концов к Богу,
наделяющему человека волей и позволяющему ему в его моральных поступках
осуществлять, смотря по обстоятельствам, более высокие этические ценности.
Осн. произв.: «Studies of Christianity», 1858; «Types of
Ethical Theory», 2 vol., 1885; «Study of Religion», 2 vol., 1888. |
|
Марти-и-Перес
Хосе Хулиан |
МАРТИ-и-ПЕРЕС (Marti-y-Peres) Xoce Хулиан (1853-
1895) - кубинский мыслитель и поэт, революционер, национальный герой Кубы. Культовая
фигура латиноамериканской философии 20 в., предтеча "философии
латиноамериканской сущности", создатель ее основной мифологемы "нашей
Америки" как "подлинной Америки" (впервые обозначенной
С.Боливаром как "две Америки"). В литературном творчестве эволюционизировал
от романтизма (ученик Р.Мендиве) к модернизму (наряду с Родо и Р.Дарио считается
основоположником латиноамериканской версии последнего). Всю свою жизнь
М.-и-П. подчинил борьбе за освобождение Кубы от колониальной зависимости (прожил
жизнь под девизом: "Невозможное возможно. Безумцы, мы мыслим здраво")
и в этом отношении считал своими духовными предтечами Боливара, X.Сан-Мартина
и М.Идальго-и-Кастильо. "Прежде чем создать собрание моих стихов, я
хотел бы создать собрание моих действий", - утверждал М.-и-П. В
философском плане определенное влияние на его становление оказали позитивизм
(Г.Спенсер и эволюционистские доктрины в целом), эклектизм К.Краузе (1781-1832),
Р.У.Эмерсон (1803-1882). В модернистский период он выступил с критикой натурализма
(реалистической школы) в литературе и философской методологии (М.-и-П.
отстаивал тезис о прямой связи литературы с философией - "каждая философская
система порождает, как следствие, и собственную литературу"). Его взгляды
этого периода некоторые исследователи определяют как "практический
идеализм". Он не был марксистом и не считал себя социалистом, что из идеологических
соображений ему пытались приписать в 20 в. Среди опасностей, подстерегающих
социализм, М.-и-П. указывал путанность и неполноту его канонических текстов и
олицетворение его идей амбициозными людьми. Он указывал также на
"невежество классов, на стороне которых справедливость", на
"пагубное воздействие гнева", на угрозу "новой касты чиновников",
которая возникнет при социализме. Критически отнесся М.-и-П. и к опыту
Парижской коммуны. Важной составляющей его мировоззрения была христианская компонента
(М.-и-П. вполне в духе последующей "теологии освобождения" совмещал
революцию и религию). В его творчестве и деятельности переплелись мотивы эсхатологии
и утопизма, а все оно понималось М.-и-П. как деяние, подвижничество, служение
идее, невозможное без страдания. "Слова его - не слова, а деяния, творения...",
- отмечал М.Унамуно. В 1869 М.-и-П. написал драму в стихах "Абдала"
как отзыв на Кубинское восстание 1868, был арестован и приговорен к шести годам
каторжной тюрьмы. В 1871 тюрьма была заменена высылкой в Испанию, где М.-и-П.
учился на юридическом факультете Мадридского университета. В этом же году
опубликовал свой первый очерк "Политическая тюрьма на Кубе". В 1873
переезжает из Мадрида в Сарагосу, где сдает экзамены на двух факультетах
местного университета и получает в 1874 дипломы лиценциата гражданского и
канонического права и лиценциата философских и филологических наук. С 1874 -
в Мексике, с 1876 - в Гватемале, где преподавал в Центральной нормальной школе
(в том числе и философию), участвовал в составлении нового свода законов
государства, выпустил (в 1878) брошюру "Гватемала" (в которой обосновывал
идеал независимой демократической республики мелких собственников). В 1878
вернулся по амнистии на Кубу, вошел в Кубинскую революционную хунту в Гаване.
Арестован и выслан в Испанию, откуда в 1880 бежал в США, затем в Венесуэлу (где
пытался издавать журнал, проповедующий американизм), затем снова в США (в
1881). Пережил личную драму - жена (дочь богатого сахаропромышленника) с
сыном вернулись на Кубу. Выпустил сборник стихотворений "Исмаэлильо"
(1881), посвященный сыну (считается провозвестником латиноамериканского
художественного модернизма). Другие поэтические сборники позднего М.-и-П.: "Свободные
стихи" (1878-1882), "Цветы изгнания" (1885-1887), "Простые
стихи" (1891). В эмиграции занимался журналистикой, был консулом Парагвая
и Аргентины в США, делегатом Уругвая на валютной конференции 1891, председателем
латиноамериканского литературного общества. В 1891 написал программную статью
"Наша Америка", концептуализирующую "американизм" (т.е.
"латиноамериканизм"). 10.10.1891 призвал к новой национально-освободительной
борьбе, 26.10.1891 предложил ее лозунг: "Со всеми и для блага
всех". В марте 1892 начинает издание газеты "Патриа", в
которой помещает новую программную статью "Наши идеи", в апреле участвует
в создании Кубинской революционной партии (избран "уполномоченным
партии"). 7.02.1895 подписал с генералом М.Гомесом "Манифест
Монтекристи" (название - по месту подписания; написан М.-и-П.; получил
название "Евангелия кубинской революции"). 11.04.1895 произошла высадка
повстанцев на Кубе, 19.05.1895 М.-и-П. был убит в бою [есть основания считать,
что М.-и-П. (при его озабоченности танатологической проблематикой и стремлении
к игровой театрализации собственной жизни) осуществил тем самым последний
"акт подвига творчества" - он внезапно покинул отряд, оторвался от
своего ординарца и поскакал навстречу огню противника]. М.-и-П. не оставил собственно философских произведений,
исключение - черновые заметки "Философские идеи", которые он сделал
в Гватемале при чтении лекций в 1877. В основном он интересен своими
программными статьями, собственными деяниями (построенными на проигрываемых
становящимся "Я" творческих актах как ответственных действиях, организующих
действительность во времени и следующих-противостоящих судьбе, а в культурологическом
плане выражающихся в "нарекании имен вещам", - интерпретация Ю.Н.Гирина),
теми "культовыми" переинтерпретациями, которым были в последующем
подвергнуты его жизнь и творчество. Свои идеи М.-и-П. часто облекал (в силу своего
поэтического дара) в форму мифологизированных афоризмов и максим,
предполагающих их развертывание в конкретных интерпретациях-прочтениях:
"Свобода... это долг бороться за освобождение других"; "Под
хоругвью Пресвятой Девы мы вышли на завоевание свободы"; "Свобода -
окончательная религия!"; "...Нас научили верить в Бога, который не
является настоящим"; "Любовь есть не более как потребность веры:
существует таинственная сила, которая желает всегда во что-то верить и что-то
уважать"; "Созидать - вот девиз нового поколения"; "Знать
- значит решать"; "Сюртуки у нас еще французские, но мыслить мы
начинаем по-американски"; "Мыслить - значит служить человечеству";
"Человеческая душа не имеет цвета..."; "Будущее принадлежит миру";
"...Недостаточно родиться - необходимо создать себя"; "Есть
лишь один способ жить после смерти: быть при жизни человеком всех времен или
человеком своего времени"; "Страдать значит умереть для жалкой
жизни внешней и возродиться для жизни во благе, единственной истинной жизни";
"Воспитывать на примере прекрасного - вот максима"; "Поэзия...
не есть искусство, она - сама жизнесущность"; "...Нации должны жить
своей жизнью, сами пропотеть в горячке"; "Америка не пойдет вперед,
пока не научится ходить индеец"; "Раб всякий, кто работает на другого";
"Родина - это человечество"; Все творчество М.-и-П. объемлется рамкой
антиколониализма (конкретное воплощение колониализма - Испания) и антиимпериализма
(конкретное воплощение империализма - США) и подчинено четко обозначенной
цели - достижению независимости Кубой. Независимость - самоценность, но в последующем
она должна быть обеспечена воплощением в жизнь социальной утопии М.-и-П. -
построением основанной на принципах справедливости (уважении воли народа-нации
и закона-права) демократической республики мелких собственников. Однако, по
сути, это лишь внешние императивы, организующие ответственное личностное
деяние во их исполнение, с одной стороны, и дающие возможность для завершения
формирования национально-культурного самосознания Латинской Америки
(воплощающей собой особую мировую цивилизацию) - с другой. Ведь проблема
независимости, согласно М.-и-П., не есть просто смена политических и экономических
форм, а есть проблема смены духа: от уровня личности до уровня народа-нации.
Она есть точка совпадения действия закона исторической необходимости и закона
непреклонной воли, который (в отличие от первого) есть результат организации
и координации целенаправленно спланированных усилий отдельных людей. "Прогресс
неизбежен, но он совершается в нас самих; мы являемся нашим критерием и нашим
законом; все зависит от нас; человек является логикой и провидением человечества".
Поэтому, утверждает М.-и-П.: "Сильные предвидят, люди более слабые
ожидают бури со скрещенными руками". От "сильных" с необходимостью
требуется жертвенность во имя реализации идеалов, но она должна мотивироваться
не личными желаниями-капризами или фантазиями, а "пользой и необходимостью,
оправданными разумом", "духом". Только этим и обосновано, согласно
М.-и-П., обращение к философии, которая может дать обоснование реализуемому в
деянии идеалу и помочь самоопределиться самому деятелю. "Я, - отмечает
М.-и-П., - могу написать две книги: одну, из которой будет видно, что я знаю,
о чем писали другие, - удовольствие, никому не нужное, и особенно для меня. И
другую, в которой я буду изучать себя через самого себя: удовольствие
оригинальное и самостоятельное". "Другая книга", отдавая
должное слову как таковому, акцентирует, прежде всего, переживание индивидом
самого себя в собственном деянии: "Мое искупление через меня, которое
понравится тем, кто захочет искупления. Я, следовательно, оставляю в стороне
то, что знаю, и вхожу в мое бытие". Таким образом, философия как
"познание причин всех видов бытия, их различий, аналогий и связей",
а также история как "познание того, каким образом эти причины развивались",
оправданы лишь в той мере, в какой они дают ответы на вопросы: "Что мы
такое? Чем мы были? Чем мы можем быть?". В поисках ответов на эти вопросы
очень важно выполнение двух условий: 1) сохранить стереоскопичность видения,
2) исходить из личностно обозначаемой позиции. Первая перспектива предполагает
избегание односторонности взгляда, догматичности, равно как и следования
личностному пристрастию, предвзятому отношению к фактам ("факты следует
брать такими, какими они являются на самом деле, не преувеличивая, не извращая
и не замалчивая их"). Собственно на уровне философии это означает учет
сильных сторон как физики (науки, опыта), так и метафизики (духа, трансцендентного),
как материализма, так и спиритуализма ("хотя его и не следует так называть").
Каждая из этих позиций в отдельности - "только часть истины, которая погибает,
если ей не помогает другая школа", лишь учет их обеих позволяет надеяться
на целостность истины ("Исследование - глаз разума"). Точно так же,
в свою очередь, физика (основанная на исследовании) и метафизика (в основе которой
- рефлексия) комплексируются с поэзией (исходящей из интуиции) и подлинно
религиозным отношением к жизни и познанию (вменяющем в обязанность "труд
как средство достижения досуга, исследование как средство достижения истины,
честность как средство достижения целомудрия"). Эту веру, согласно М.-и-П., необходимо отличать от
догматичной веры, которой нас научили: "С этой научной верой можно быть
отличным христианином, любящим деистом, совершенным спиритуалистом. Чтобы
верить в небо, в котором нуждается наша душа, нет необходимости верить в ад,
который наш разум отвергает". Эти позиции не следует смешивать (например,
пытаться строить метафизику на интуиции), но нельзя и проводить жесткую демаркацию
между ними (например, если метафизика может опереться на результаты исследования,
она должна сделать это, корректируя свою спекулятивность, "тобы знать,
нужно исследовать"). Метафорически М.-и-П. обозначил эту позицию так:
"Нет необходимости выдумывать Бога, раз его можно доказать". Другое
дело, утверждает М.-и-П., что "гипотеза относительно духовного не
поддается научной проверке" (и именно в этом - ошибка
"физиков", доходящих в своих крайностях "до отрицания всякого
духовного явления"). Следовательно, чтобы сохранять "стереоскопичность
видения" философия "должна изучать человека, который наблюдает,
средства, которыми он наблюдает, и то, что он наблюдает; а тем самым она делится
на: философию внутреннюю, философию внешнюю и философию отношений. По сути,
М.-и-П. во многом следует схеме Краузе (которого он считает философом
"еще более великим, чем Гегель"), однако принципиально видоизменяет
ее, вводя вторую перспективу (личностно обозначенной позиции) - лучший вид исследования
суть наше собственное исследование действием, в котором объединяются ипостаси
борца ("арена"), творца ("мастерская"), служителя новой
веры ("храм"). Великие люди тем и отличаются от остальных, что они
являются "хозяевами своих собственных крыльев". Личностная задача
человека состоит в том, чтобы исходя из практических доводов (экспериментально-личностных
ситуаций), "постоянно думать с помощью элементов науки, рожденных из наблюдения,
обо всем, что попадает в сферу нашего разума, и о причине всего этого - в этом
и состоят элементы, нужные для того, чтобы стать философом". "Следовательно,
мы сами являемся первым средством познания вещей, естественным средством исследования,
естественным философским средством". Таким образом, в философском
исследовании, которое сводится к выявлению того, как Я и не-Я связаны между
собой, акцент с необходимостью должен делаться на том, что в Я "есть
собственно индивидуальное и что приобретено и превнесено". Поэтому хорош
только тот философский метод, "который, анализируя человека, берет его
во всех проявлениях его бытия и при наблюдении не оставляет в стороне как
нечто второстепенное такое, чем можно пренебречь, то, что в силу своей, быть
может, неясной и сложной первоначальной сущности, не легко поддается
наблюдению". Средство познания мира - разум (М.-и-П. соглашается с
максимой Эмерсона: "Мир - это устремленный разум" и его же афоризмом:
"Червь проходит через все изменения формы в своем стремлении стать
человеком"), но разум действенный, а как таковой он организуется
принципами творчества (как деяния), которое утешает, любви (как деяния),
которая спасает и объединяет, и жизни (как деяния), которая начинается со
смерти, как принимаемыми на веру принципами "высшего бытия". Смерть
- высшая точка жизни, дающая ей законченную осмысленность и налагающая на
человека ответственность, как обязанность творить и любить. Более того, порождая
скорбь, она освящает подлинное "удовольствие". "И в последний
час надо плакать от боли за любимых, которые остаются, от огромного счастья,
доставляемого свободой, которой тот, кто умирает, начинает, быть может,
наслаждаться". Однако самопознание, - согласно М.-и-П., - не есть
самоцель, оно "не может дойти до того, чтобы лишить нас возможности
познавать других". Тезис же о взаимодействии-взаимоотношении с другими
контурно замыкается у М.-и-П. на объединяющий всех идеал. Таковым выступает у
него идеал народа-нации, реализующей принципы социальной справедливости (по принципу:
"Нельзя уважать волю, подавляющую другую волю"), внутри
цивилизационной целостности. В этой перспективе М.-и-П., в оценке Сеа,
выступает как автор проекта самообретения Латинской Америкой своей
"латиноамериканской сущности", интегративно вобравшем в себя все проективные
идеи, предложенные в латиноамериканской философии 19 в. Этот проект был
направлен на выявление аутентичной сущности человека Латинской Америки и
породившей его действительности, а также на самоидентификацию латиноамериканской
цивилизации в ряду мировых человеческих цивилизаций. Любое проективное
(основанное на должном, а не на сущем) отношение к себе и миру начинается с
критики сущего для обретения перспективы видения. Следовательно, критика понимается
не как порицание, а как аналитическое обоснование объективного (т.е. учитывающего,
в интерпретации М.-и-П., все многобразие возможных точек зрения) критерия:
"Критика не порицание; даже в своем формальном значении, в этимологии, она
является просто применением критерия". Таковым критерием и является "самообретение",
с позиций которого критика направлена как вовне, так и вовнутрь по отношению к
ситуации, которая осмысливается. Самообретение же, для М.-и-П., есть, прежде
всего, самоосвобождение, которое только и дает "законное право" на
последующее самостоятельное действие, так как выявляет самость субъекта
самоосвобождения. "...Для испанской Америки пробил час вторично
провозгласить свою независимость". Первое самообретение провел Боливар и
его соратники, но оно оказалось в значительной степени внешним, так как
сохранило все путы культурной и интеллектуальной зависимости от Европы как
метрополии, добавив духовный империализм США. Направленная на самих себя,
критика обнаруживает, согласно М.-и-П., что: "Мы были ряжеными в английских
панталонах, в парижском жилете, в сюртуке янки и в испанском берете. Индеец с немым удивлением кружил вокруг нас и уходил
в горы крестить своих детей. Негр, скрываясь от враждебного взора, пел в ночи
песню, лившуюся из сердца... Крестьянин, творец, слепой от негодования, восставал
против своего творения - надменного города. Мы принесли с собой эполеты и тогу
в страны, которые появились на свет в альпаргатах и с индейской повязкой на
голове". Латинская Америка культурно и духовно оказалась неадекватной и
неаутентичной себе самой, более того, она оказалась внутренне расколотой.
Попытки преодолеть эту расколотость и неадекватность породили в социально-политическом
опыте Латинской Америки лишь презрение к народным массам, что привело к почти
повсеместному установлению тирании (каудильизма) и, в свою очередь, блокировало
возможность постичь подлинные начала национальной жизни ("Не может быть
политической свободы, пока не будет свободы духовной"). Подлинность латиноамериканца
возможна лишь при выявлении аутентичного смысла "нашей Америки"
через: 1) самоопределение и обращение к самим себе; 2) выявление принципов
культурной самобытности Латинской Америки и механизмов, позволивших бы ей,
отграничив себя от "иной Америки", ассимилировать мировую культуру
на собственной основе; 3) осознание единства нашей Америки. Цель установления
собственной идентичности и аутентичности не есть изоляционизм и всяческое подчеркивание
своей непохожести и исключительности. Она - прямо противоположна: обретя
самость, равноправно включиться в мировой цивилизационный прогресс... Плохое
следует ненавидеть, наше оно, или чужое. Хорошее не следует отвергать только
потому, что оно не наше. Но неразумно и бесплодно стремление трусливых и неумелых
людей прийти к величию, достигнутому чужим народом, иным путем, чем тот, который
и привел этот народ к безопасности и порядку, - т.е. не своими собственными
усилиями, не применением основ свободы к реальным условиям страны. Нельзя
поклоняться чужим идолам, идеи имеют собственные корни (поэтому опасно не только
копирование, но и недоверие к своему собственному). "Наше прошлое для
нас дороже античности. Оно нам нужнее", - констатирует М.-и-П. Нельзя
управлять народом, которого не знаешь, потому что смотришь на мир сквозь
"заимствованные очки" ("Правительство есть не более чем равновесие
естественных элементов страны"). "Знать страну и управлять ею со
знанием дела - единственное средство освободить ее от всякой тирании".
Это подразумевает использование двух взаимопредполагающих путей: 1)
организация собственной ("американской") системы образования, позволяющей
усваивать "абсолютные истины", но не в их "ложной" ("европейской")
оболочке; 2) знание подлинных тенденций латиноамериканской жизни и действование
в соответствии с ними. Тогда обнаруживается, что нет никакого противостояния
между "варварством и цивилизацией" (оппозиция, заданная
Д.Ф.Сармьенто), а есть борьба между "ложной ученостью и самобытностью",
что нет расовой ненависти ("потому что не существует рас"), а есть
единство Латинской Америки в многорасовой и поликультурной метисности. Именно
в Латинской Америке выполняется, по М.-и-П., "закон аналогического развития":
единства в разнообразии и разнообразия в едином. Человечество едино, ведь
люди, различные по телосложению и цвету кожи, наделены одинаковой душой, однако
это единство не в тождественности, а именно в разнообразии. ("Никогда
еще в истории в такой короткий срок из столь неоднородных элементов не создавались
такие передовые и сплоченные нации".) Можно, конечно, выбрать критерий,
предполагающий различие рас, но с точки зрения действования эта теория оказывается
ущербной, ведь тот, "кто возбуждает и распространяет расовую вражду и
ненависть, совершает преступление против человечества". "Подлинная"
же Америка обнаружилась, согласно М.-и-П., в тот день, когда мексиканские дворяне
оплакивали смерть президента-индейца (по происхождению) Б.Хуареса (1806-1872).
Подлинность народа-нации, во-первых, заключена в его духовном и культурном
единстве (поэтому свержение диктатора не есть еще победа, а приказом можно управлять
лишь войсками, ведь народ не создается по приказу). Для этого необходимо
преодолеть разлад человека с самим собой и утвердить его аутентичную культурную
идентичность. Несвобода - это, прежде всего, отсутствие веры в себя. При
этом, считает М.-и-П., данная ситуация не есть чисто латиноамериканская: ее аналог
можно обнаружить, например, в России, где также наблюдается разлад человека с
самим собой (где в одном человеке два - завоеватель и варвар, где жизненная
сила соседствует со смятением духа, где также сказывается влияние чужой
цивилизации и несформированность собственной). Подлинность народа-нации,
во-вторых, никогда не дана в настоящем, а лишь в представлении бытия
должного, т.е. в будущем, осуществление которого зависит от нас настоящих.
Отсюда этика долга М.-и-П., основанная на необходимости утверждения ценностей
патриотизма и гуманизма в борьбе за самоосвобождение себя и народа-нации.
Исходя из этических принципов, ответственно действующая личность, организуя
себя, способна организовать будущее народа-нации. Любой творческий акт является
в этом отношении не просто деянием, но свершением, обретает культурностроительное
значение. Если направленность на осознание своей субъективной ответственности
в мире превращается в конституирование этого мира, то это дает надежду на то,
что "над ржавым хламом старых доспехов, над землей возрождающихся к
жизни индейцев уже брезжит в Америке лучезарное будущее". При этом
"надо лишь верить в лучшее, что есть в человеке, и остерегаться худшего
в нем. Нужно дать возможность добродетелям проявиться и возобладать над пороками".
(См. также "Философия латиноамериканской сущности".) |
|
Марциан
Капелла |
МАРЦИАН КАПЕЛЛА (Martianus Minneius Felix Capeila)
(2-я пол. 5 в. н. э.), латинский платоник, последний латинский выразитель
«религии культуры» — спасения через пайдейю. Известен как автор сочинения «О
браке Филологии и Меркурия» (De nuptiis Philologiae et Mercurii),
написанного в конце 470-х (Fabricius, p. 305-306; Shanzer, p. 5-28). Образцом
при построении текста М., принадлежащего к римской риторической традиции,
послужили следующие греческие и латинские источники: Менипповы сатиры
(чередование прозаических разделов и стихотворных вставок); «Метаморфозы» Апулея
(стиль, аллегория, философские доктрины), «Девять наук» Варрона (свод
дисциплин), «Халдейские оракулы» и работы Порфирия, разъясняющие их
(философская система М.), а также «Естественная история» Плиния (география,
астрономия), «Начала» Евклида Александрийского и «Введение в арифметику» Никомаха
из Герасы (арифметика) и др. Структура и содержание De nuptiis.
Сочинение M.
состоит из 9 книг. Первые две книги (I—II, 1-220) представляют собой
аллегорический роман, повествующий о бракосочетании бога Меркурия со смертной
Филологией (позднее это соединение толковалось как союз красноречия и ученого
знания; наук «тривия» и, согласно делению Боэция, «квадривия» - Boeth. Inst, arithm. I, 1).
Далее изложены основы необходимых для воспитания образованного человека семи
свободных наук, представленных М. в образе божественных существ, выступающих
перед богами с соответствующими речами. Завершает сочинение
автобиографическое стихотворение (IX, 997-1000), содержащее посвящение сыну
М. (997). В аллегорическом вступлении причудливо переплетены неопифагореизм,
религиозные идеи этрусков, неоплатонические и стоические представления,
заимствования из египетских культов и герметизма. Физика и космология близки
к платоническим. Пантеон богов представлен в духе астральной религии. В
грамматическом разделе (III, 221-326) изложено учение о звуках, буквах, их
позициях в словах, произношении, частях речи, с описанием правил склонения и
спряжения. Книга о диалектике (IV, 327^424) посвящена логике, восходящей к
Аристотелю. Изложено учение о роде, виде, видовом отличии, существенном и
привходящем признаке, определении и разделении. Также изложено учение о
способах наименования, омонимах и синонимах, о суждении и его видах,
силлогизме. Риторический раздел (V, 425-566) представляет собой продолжение и
развитие предыдущего изложения. В частности, повествуется об искусстве
составления и произнесения речей. В книге о геометрии (т. е. о географии) (VI,
567-724) обсуждается форма и положение земли. В арифметической секции (VII,
725-802) изложено учение о числе (четные и нечетные, простые и сложные и
пр.); в традиционном пифагорейско-платоническом ключе описана первая десятка
(731-742). В астрономической части (VIII, 803-887, окончание утрачено)
прослеживается устройство небесной сферы, на которой выделены десять небесных
окружностей; говорится о созвездиях, восходе и заходе светил, движении
планет, величине кругов, по которым движутся Луна, Солнце и др. планеты.
Заключительный раздел посвящен гармонике (включая учение о звучании небесных
сфер) (IX, 888-996) и теории влияния музыки на все живое и неживое. Описывая
тоны, аккорды, лады, деления, ритм, его типы, М. указывает на то, что настоящим
предметом этой дисциплины является космос и его гармоническое устройство
(921). Философские представления М., изложенные
в аллегорической манере, можно реконструировать на основании De nupt.
I, 1-97 и Π,
98-80. В построениях M.
присутствуют два плана: 1) теологический, проявляющийся в описании
деятельности различных богов, символизирующих ум, небесные тела и духов
(демонология), и в изложении астрономических представлений; и 2)
психологический (Gersh, p. 606-646). I. Теология. Применительно к миру М.
говорит о двух первоначалах, описывая (II, 202-205) прибытие Филологии на
сферу неподвижных звезд и ее молитву «источниковой деве» (fontanam virginem),
a
также силе (potestatem) Единожды и Дважды Запредельного [II, 204-205].
Единожды Запредельное - это Отчий ум (πατρικός νόος [ср. Огас. fr. 39]), Дважды
Запредельное - Второй Ум (νόος δβύτερος [ср. Огас. fr. 7-8]),
производящий душу (φυχη άρχιγενβθλος),
символизирующую женский источник (ср. Огас. fr. 51-52). Первое
начало описано как недоступное даже знанию богов (II, 202), хотя и достижимое
для некоторого рода интеллектуальной активности; оно превосходит премирные (extramundanas)
блаженства (II, 202); оно описано как существование истины, происшедшей из того,
что не существует (II, 206); как огненный мир (II, 201), возможно, сам огонь
(IX, 910) и (или) источник огня (И, 206). Ассоциируемое с глубиной (II, 204),
оно троично по природе и относится ко всему как Отец (II, 204), как сила (II,
185) и как ум (IX, 910). В целом, первое начало изображено как охватывающее
всю Вселенную и как истина того, что существует. Второе начало, согласно М.,
не просто едино, но едино во множестве. Его функции проявляются в виде
образов и действий различных богов (И, 203): (i) Юпитера, как
священного ума (I, 92: 6 νους sacer),
связующего каждую из планетарных сфер (ср. Porph. In Tim. fr. 20);
отождествляемого с монадой и причинной силой его идеальных и умственных
образов (VII, 73); (ii)
Афины, о которой говорится как о вершине рассуждения и священном уме богов и
людей (VI, 567), как о разумении и понимании судьбы, уме мира (VI, 567); как
о сфере пылающего эфира (VI, 567), что эквивалентно уму наиболее удаленной
сферы (ср. Varro.
Antiqu.
fr.
205 [ар. Macr. Sat. Ill, 4, 8] - 206 [ар. Aug. Civ. D. VII, 28]); (iii)
Солнца, занимающего среднее место в небесной системе и под разными именами
охватывающего весь мир (II, 191-192), позиционируемого как «источник ума» (И,
193), как бытие, «три буквы [имени которого] образуют священное имя и знак
ума» (II, 193), как отец ума (II, 193), сила неведомого отца (И, 185),
«первый отпрыск» (II, 188), единственно почитаемое после отца (II, 193) и как
лик отца (II, 193), что свидетельствует о тесной связи ума солнца с
первоначалом; и (iv) Меркурия, описанного как божественность, через которую
бдительный и рассудительный ум наполняет разумением глубину Вселенной (II,
126), и связанного с высшим началом (Юпитером) через веру, речь, благодеяние,
как истинный гений (I, 92), что демонстрирует объединение различных умов в
единое целое. Второе начало также играет роль вместилища трансцендентных
идей, сообразно которым Бог-творец наделил формами этот видимый мир,
представленный в виде сферы (I, 68), состоящей из множества элементов: всего
неба, воздуха, морей, разнообразия земли, всех видов и родов живых существ.
При этом М. воспевает качества числа три, говоря, что оно означает
совершенство Вселенной, т. к. монада связана с Богом-создателем, диада -с
порождающей материей, триада - с идеальными формами» (VII, 733). В
астрономической части (VII), посвященной разъяснению различных родов движения
небес, осуществляющие такое движение классические боги, которые одновременно
и антропоморфны, и символизируют планеты (I, 73-75 - II, 183-185; I, 75 - И,
183; I, 75 - И, 189; I, 75 - II, 185), представлены в качестве божественных и
соотносящихся с божественностью небесных тел: Луны, Меркурия, Венеры, Солнца,
Марса, Юпитера, Сатурна, вплоть до неподвижной сферы, отстоящих друг от друга
на определенном расстоянии (измеряемом интервалами, тонами и полутонами). Боги
как духи (демонология). Теологические представления о богах как о духах
выявляются из описания 16 регионов небес, где находятся жилища различных
богов. В 1-м - жилище Юпитера, «совет богов» или Пенаты, Лары, Янус и др.; во
2-м - жилище Юпитера, Марса Квирина, «воинственного Лара» (lar militaris) и
более отдаленных богов, и т. д. (1,45-61). Некоторые из богов (Юпитер, Марс,
Лары) у М. появляются в нескольких регионах. Все боги, которых возможно распределить
по 4-м основным точкам окружности (по компасу) - что восходит к представлению
этрусков о делении небес (ср. Cic. Divin. II
87-89); Plin. Nat. hist. II 143; Serv. In Aen. VIII,
427) - классифицируются М. в соответствии с местом их обитания. Упорядочение
богов подразумевает не только их иерархию в целом, но и иерархию внутри
каждой группы богов. Духи - которым М. присваивает разные названия
(«могущества», «божества» (II, 149: numina); «одушевленные», «души и умы»; «души»)
- распределился по 5 категориям следующим образом (II, 150-167). 1) Духи,
которые спускаются с самого эфира и кружат подле высшей сферы на том
расстоянии, на котором расположена орбита Солнца (могут быть: а) огненной и
пламенной сущности; Ь) бесстрастными; с) величайшими в добродетели; d) упорядочивающими
таинства сокрытых причин; е) подвластными правлению Юпитера; f) называемыми
божественными и небесными). 2) Духи, которые находятся «между течением Солнца
и орбитой Луны» (а) менее яркие и светлые по сравнению с небесными, но еще
недостаточно телесные, чтобы быть видимыми взором людей; b) причастные
пассивности; с) менее добродетельные; d) собирающие пророчества, сны и предзнаменования,
охраняющие души и умы всех людей, и как гении заботящиеся об отдельных
смертных; е) подвластные правлению Юпитера; f) именуемые
«ангелами», «демонами», «посредниками»; g) именуемые «Ларами»). Далее, 3) духи,
которые обитают в высшей части пространства между орбитой Луны и Землей и тем
самым в высшей части воздуха, распространенного под Луной (эти духи: а)
обладают эфирной сущностью; b)
причастны пассивности; с) менее добродетельны; d) рождаются в
человеческом образе, чтобы помогать всему миру; е) подвластны Плутону там,
где Луна, главенствующая в этой части воздуха, называется Прозерпиной; f) называются полубогами
или частично богами). Далее 4) духи, которые обитают от средней части воздуха
до пределов гор и земли (они а) обладают воздушной сущностью; Ь) причастны
пассивности; с) менее добродетельны; d) связываются с телами в момент зачатия
и любимы этими телами и после жизни; е) подвластны Плутону; f) называются
полубогами и героями). В эту категорию духов входят Маны, Лемуры, Ларвы,
Мании и Фурии (И, 162-164). И наконец, 5) те, чьи души, покидая свои тела,
поражаются воздухом, окружающим сферу земли; они обеспокоены идущими сверху
жаром и паром и влажностью снизу; эти духи: а) обладают воздушной сущностью;
Ь) после долгой жизни умирают как люди; с) злы по природе; d) способны
предвидеть, атаковать, вредить; е) подвластны Плутону; f) именуются злыми.
Такие духи включают в себя Фавнов, Сатиров, Нимф, и др. П. Психология. Основу учения М. о
человеческой (индивидуальной) душе (в роли которой выступают Филология, ее
паланкин, на котором она поднимается на небеса для бракосочетания с
Меркурием, и богиня Психея) составляет представление об обожении такой души (I,
94-96; II, 125; II, 131). Обожение является участью тех, кто заслужил его в земной
жизни; напротив, участью тех, кто использовал земную жизнь плохо, будет
вечное мучение в Перифлегетоне. Обожение души достигается через процесс
очищения, состоящего из двух стадий: изрыгания письменных наук всех родов (И,
136) и испития из яйца, соотносящегося с округлой и одушевленной сферой (II,
140) и символизирующего ее. Символизм человеческой души проявляется в
описании украшенного звездами паланкина (И, 133), которого не касается
бренное (И, 134), поднимаемого ввысь четырьмя персонифицированными
психологическими качествами: идущими впереди «Работой» (Labor) и «Любовью» (Amor), и держащимися
позади Заботой (Epimelia)
и Бдительностью (Agrypnia). M.
говорит о двойственной природе души: земной (происхождение Филологии) и
божественной (достигаемой через приобретение Филологией определенных качеств
и свойств: сияющего эфира, жилища богов, родства с Юпитером). Двойственная
природа отдельной души, ее связь с космической (мировой) душой и её небесная
сущность заданы происхождением Психеи - дочери Энтелехии (источника всех душ;
ср. Cic. Tusc. I 22) и Солнца (наиболее важного из небесных тел, I, 7). Соч.: Martianus Capeila. De nuptiis Philologiae et Mercurii. Ed. A. Dick.
Lpz., 1925; Martianus Capeila. De nuptiis Philologiae et Mercurii. Ed. J. Willis. Lpz., 1983; Martianus
Capella and seven liberal arts. Tr. and notes by W. H. Stahl, R. Jonson, E.
L. Bürge. Vol. II (N. Y.; L., 1971-1977); на франц. яз.: Martianus Capella. Les noces de Philologie et de Mercure. T.
VIL Livre VII: L'Arithmétique. Texte et. et trad, par J.-Y.
Guillaumin. P., 2003; Idem. Les noces de Philologie et de Mercure. T. IV.
Livre IV: La dialectique. Texte et. et trad, par M. Ferré. P., 2007. Лит.: Fabricius J. A. Bibliotheca latina mediae et infimae latinitatis.
Hamb., 1734-1736 (repr. Fir., 1858), p. 305-306; Courcelle P. Martianus
Capella, - Idem. Les lettres grecques en Occident de Macrobe à Cassiodore.
P., 1943, p. 198-205;
Shanzer D. A. Philosophical and literary commentary on Martianus Capella's
«De nuptiis Philologiae et Mercurii». Bk. I. Berk.; L.Ang.; L., 1986, p.
1-44; Cameron A. Martianus and his first editor, - CPhil 81, 1986, p.
320-328; Gersh S. Martianus Capella, - Idem. Middle platonism and
neoplatonism. The Latin tradition. Vol. IL Notre Dame, 1986, p. 597-646; Turcan
R. Martianus Capella et Jamblique, - REL 36, 1958, p. 235-254; Weinstock S. Martianus
Capella and cosmic system of the Etruscans, - JRS 36, 1946, p. 101-129. Уколова
В. И. Брак Филологии и Меркурия. Марциан Капелла, - Поздний Рим. Пять
портретов. М., 1992, с. 85-101; Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Макробий и
Марциан Капелла - философствующие писатели поздней античности, - Античность в
контексте современности. Вопросы классической филологии. Вып. 10. М., 1990,
с. 5-33; Лосев, ИАЭ VIII. Итоги
тысячелетнего развития. Кн. 2. М., 1992, с. 153-161 («Марциан Капелла»); Петрова
М. С. Марциан Капелла (просопографический очерк), -Диалог со временем. Вып. 2.
М., 2000, с. 110-141; Шишков А. М. «Марциан Капелла», в кн.: Средневековая
интеллектуальная культура. М., 2003, с. 12-18. |
|
Масарик
Томаш Гарринг |
МАСАРИК (Masaryk) Томаш Гарриг (род. 7 марта 1850, Годонин, Моравия
– ум. 14 сент. 1937, Лана, Богемия) – чешек, философ и политический деятель;
с 1918 по 1935 – президент Чехословацкой республики, с 1882 – профессор
Пражского ун-та. Представитель теоретического, религиозного, а также
национального социализма («Прежде чем я начал думать, хотя бы примитивно,
по-социалистически, я думал по-чешски»); с 1884 по 1893 руководил основанным
им научно-критическим журналом «Athenдum». Осн. произв.: «D. Humes Prinzipien der Moral», 1883; «Versuch
einer konkreten Logik», 1886; «Die philosophischen und soziologischen Grundlagen des
Marxismus», 1899; «Zur russischen Geschichts- und Religionsphilosophie», 1913; «RuЯland und Europa», 2 Bde., 1913; «Die Weltrevolution», 1914-1918. |
|
Маутнер
Фриц |
МАУТНЕР (Mauthner) Фриц (род. 12 нояб. 1849,
Хоршиц, Богемия – ум. 29 июня 1923, Мерсбург, Боденское озеро) – нем.
представитель философии языка. Как сторонник крайнего номинализма отрицал
собственную ценность познания; то, что называют прогрессом познания, в
действительности представляет собой лишь изменение слова благодаря его
метафорическому употреблению. Философы спорят о словах; спор можно решить
только путем радикальной критики философской терминологии. Осн. произв.: «Beitrдge zu einer Kritik der Sprache», 1901-1902; «Die
Sprache», 1907; «Wцrterbuch der Philosophie», 1910-1911; «Der
Atheismus und seine Geschichte im Abendlande», 1920-1923. |
|
Мах Эрнст |
MAX
(Mach) Эрнст (род. 18 февр. 1838, Моравия – ум. 19 февр.
1916, Хар, близ Мюнхена) – нем. физик и философ; с 1897 по 1901 – профессор в
Вене. Один из основоположников эмпириокритицизма, называемого еще по его
имени махизмом. Он был крупным австрийским физиком, сделавшим много открытий
в своей области. Мах стал известен как философ после выступления с рядом
работ, в которых пытался разрешить кризис, возникший в естествознании
посредством истолкования исходных теоретических понятий классической физики. Причину возникновения и цель науки видел в
удовлетворении необходимых жизненных потребностей. Поэтому она должна строго
ограничиваться минимально возможными затратами мыслительной энергии – т.е.
стремиться к экономии мысли – на исследование действительно фактического, в
частности отказаться от всех метафизически-религиозных спекуляций. Реальны,
по Маху, только ощущения – звуки, цвета, тяжесть, теплота, запахи,
пространство, время и т. д. – и их функциональные, непричинные зависимости и
связи; вещи – это комплексы ощущений, Я – тоже лишь замкнутая в себе группа
ощущений, которая с др. группами ощущений, образующими внешний мир, связана
слабее, чем внутри себя. Следовательно, существенного различия между
психическим и физическим, Я и миром, представлением и объектом, внутренним и
внешним, не существует; различие вытекает лишь из различия точек зрения на
научную обработку материала ощущений, который должен обрабатываться строго
математически. Мах оказал влияние на теорию относительности и неопозитивизм;
его положения оспаривались Лениным. Мах исходит из того, что
человеческое познание начинается с ощущений, которые он называет элементами,
и говорит, что эти элементы обладают нейтральным характером. Он пишет: «Итак,
восприятия, как и представления, воля, чувствования, одним словом - весь
внутренний и внешний мир, составляются из небольшого числа однородных
элементов, образующих то более слабую, то более крепкую связь. Эти элементы
обыкновенно называют ощущениями. Ввиду того, однако, что под этим названием
подразумевается уже определенная односторонняя теория, мы предпочитаем просто
говорить об элементах... Все исследование сводится тогда к определению связи
этих элементов» [Анализ ощущений и отношение физического к психическому. М.,
1908. С. 39]. Он подчеркивает, что «вещь, тело, материя - ничто помимо связи
их элементов» [Там же. С. 27]. Мах выдвигает два основных
требования, которым должна следовать наука: экономия мышления и стремление к
чистой описательной науке. Принцип экономии мышления был выдвинут Махом в
связи с его исследованиями в области механики. Мах высказывает мысль, что
механика не является совершенным и единственным изображением реальности.
Основываясь на этом, он подвергает критике понимание Ньютоном абсолютности
пространства и времени, утверждая, что физические законы связаны со
взаимодействием масс (это было сформулировано им как «принцип Маха»); данное
утверждение опровергало положение Ньютона о том, что пространство и время
абсолютны, так как не зависят от распределения тяготеющих масс. По утверждению Эйнштейна, Мах
потряс догматическую веру в механицизм. Отрицание Махом абсолютности
пространства приводило к более экономному представлению о мире, так как в
этом случае существовали не отдельно пространство и материя, а
пространственно упорядоченная материя. В «принципе экономии мышления» Маха
содержалось большое рациональное зерно, так как в нем высказывалось
требование содержательной простоты и единства теорий. Однако в утверждениях
Маха проявилось преувеличение этого принципа в ущерб требованию соответствия
теории и фактов. В принципе экономии мышления Мах подчеркивал важность
«чистого описания», видя в нем источник нового знания. Он утверждал, что почти
всякое знание возникает из ощущений, и тем самым принижал роль логического
мышления. Главное для Маха - это наблюдение. С. Франк писал: «Согласно Маху и
его непосредственным последователям, фундаментальные законы физики должны
формулироваться таким образом, чтобы они содержали только понятия, которые
могли бы быть определены непосредственными наблюдениями, или, по крайней
мере, связаны короткой цепью мыслей с непосредственными наблюдениями». Однако Мах впадает в крайность,
объявляя экономию мышления основной характеристикой познания. Распространяя
на человека учение Дарвина о естественном отборе, Мах полагает, что организмы
в силу биологического инстинкта к самосохранению и выживанию «приспосабливаются»
к фактам действительности, что означает экономию мышления. Осн. произв.; «Die
Mechanik in ihrer Entwicklung», 1883 (рус. пер. «Механика в ее развитии», 1909); «Die Analyse der Empfindungen», 1886 (рус.
пер. «Анализ ощущений и отношение физического к психическому», 1907); «Erkenntnis und Irrtum», 1905 (рус.
пер. «Познание и заблуждение», М., 1909). |
|
Махатма
Ганди |
Мохандас Карамчанд Ганди (настоящее имя) появился на
свет 2 октября 1869 года в Порбандаре. Его отец принадлежал к варне вайшьев
(третье по значимости сословие в обществе), члены которого исторически были
предпринимателями и владельцами земли. Мать мальчика была очень набожной
женщиной, которая строго следила за соблюдением всех религиозных обрядов в
доме. Начальное образование Мохандас получил в местной
школе. Учёба не слишком привлекала мальчика, и учился он весьма
посредственно. Когда Ганди исполнилось 19 лет, на семейном совете было решено
отправить его на обучение в Великобританию. Так юноша стал студентом
Университетского колледжа Лондона, который окончил в 1891 году, и с дипломом
юриста вернулся на родину. Молодой Ганди очень хотел помочь своему народу
обрести лучшую жизнь. Чтобы изучить родную страну, он отправился в
путешествие и повсюду видел лишь ужасающую нищету, больных, измождённых,
озлобленных людей. Внутренняя обстановка в Индии была удручающей. Поначалу Махандос пытался работать по специальности
на родине, но не смог добиться особого успеха. Решив круто изменить свою
жизнь, он отправился в Южную Африку, где стал работать юрисконсультом в
торговом представительстве одной из индийских фирм. Именно там Ганди стал
участником общественного движения по защите прав индийцев. Махандос отвергал агрессию в любых её проявлениях.
Он стремился к тому, что отстаивать права своих сограждан без жертв и
насилия, но не знал, как это сделать на практике. Ответы на мучавшие его
вопросы он нашёл в книге Л.Н.Толстого «Царство божие внутри вас, или
христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание», которая
полностью изменила его мировоззрение. Так Ганди была разработана философская
теория ненасильственного сопротивления, которую он назвал сатьяграхой. Сатьяграха оказалась весьма успешной на практике, и
Ганди решил, что благодаря этому учению сможет принести пользу своей родине.
Слава о нём стала быстро распространяться по свету, и Ганди получил прозвище
Махатма, что в переводе означает «великая душа». Вернувшись в 1915 году в Индию, Ганди стал активно
внедрять идеи сатьяграхи в массы. Они заключались в ненасильственном
сопротивлении и гражданском неповиновении. С подачи Ганди жители Индии стали
отказываться от покупки английских товаров, работы на госслужбе, армии,
полиции. В 1919 году Ганди призвал сограждан к массовой
забастовке, и в назначенный день миллионы индийцев по всей стране не вышли на
работу. Не обошлось без столкновений с полицией, и Ганди посадили на 6 лет в
тюрьму. Стоит отметить удивительную стойкость философа, которого не сломили
годы заключения, не заставили бросить начатое им дело. Выйдя на свободу, Махатма Ганди продолжил
проповедовать, и спустя время его усилия увенчались успехом — в 1947 году
страна обрела долгожданную независимость, но разделилась на 2 государства,
Индию и Пакистан. Интересный факт — религиозное противостояние меду
последователями ислама и индуизма было остановлено только благодаря Ганди,
который объявил голодовку в знак протеста. Махатма Ганди, биография которого была
неразрывно связана с общественной и политической жизнью Индии, очень мало
времени уделял своей семье. Женился Ганди в возрасте 13 лет на своей
ровеснице Каструбе, которая стала ему верной подругой. В браке у пары
родилось четверо сыновей. Так как Ганди был очень занятым человеком, Каструбе
приходилось самой вести хозяйство, заниматься воспитанием детей, однако она
никогда не попрекала мужа. В 1948 году было совершено третье по счету покушение
на Ганди, которое оказалось фатальным. Скончался философ 30 января 1948 года
в результате смертельного ранения лёгкого. Перед смертью Ганди успел
завершить начатые дела и дописать Конституцию Индии. |
|
Мейер
Александр Александрович |
МЕЙЕР
Александр Александрович (1875-1939) - русский философ и культуролог. Родился
в лютеранской семье, где домашним языком был немецкий, но в зрелые годы считал
себя православным. Учился на историко-филологическом факультете Новороссийского
университета. Увлекся революционной деятельностью, был арестован и выслан в
Архангельскую губернию. В последующем еще не раз арестовывался и ссылался. В 1904
выслан из Баку в Среднюю Азию. Сотрудничал в газете "Русский Туркестан".
Вернувшись, в 1906 сблизился в Петербурге с крутом писателей и философов, сотрудничавших
в журналах "Новый путь" и "Вопросы жизни". Активно
занимался переводческой деятельностью, которую начал еще в годы Архангельской
ссылки (переводил Маха, П. Барта, Ф. Йодля, Р. Штаммлера и др.), читал лекции
в Обществе народных университетов (с 1908), в Вольной высшей школе Лесгафта
(с 1910). На эти годы приходится перелом в мировоззрении М., он отходит от
революционной деятельности. В начале 1910-х сблизился с Мережковским и З.Н.
Гиппиус. С 1914 по 1928 служил в публичной библиотеке. После Февральской революции
вернулся к пропагандистской работе. В августе 1917 участвовал в работе
Всероссийского Церковного Поместного Собора. С 1918 по 1928 работал на вновь
открывшихся Высших научных курсах П.Ф. Лесгафта, преподавал в ряде других
учебных заведений. К 1918 году вокруг М. образовался религиозный кружок
петроградской интеллигенции, в который в разное время входили Федотов, А.С.
Аскольдов-Алексеев, М.Бахтин, Н.П. Анциферов и др. Кружок просуществовал до
1929, регулярно собираясь по вторникам. В 1928 за деятельность в кружке М.
арестован (в 1928-1929 арестованы и другие члены кружка, в частности Бахтин).
В 1929 приговорен к расстрелу, замененному по ходатайству А.С. Енукидзе (с
которым семья М. была знакома по подпольной работе в Баку) 10 годами заключения.
Срок отбывал на Соловках, затем на Беломорканале. В 1935 амнистирован, жил в
Калязине, активно писал. Умер в 1939. При жизни печатался мало (в основном
статьи и доклады), значительная часть работ осталась в рукописях. Основные
сочинения: "Бакунин и Маркс" (1907), "Прошлое и настоящее анархизма"
(1907), "Религия и культура" (1909), "Религиозный смысл мессианизма"
(1916), "Что такое свобода" (1917), последняя прижизненная
публикация - "Принудительный труд как метод перевоспитания" (1929),
написанная на Соловках. Среди неопубликованных при жизни работ: "Что
такое религия?" (1926), "Эстетический подход" (1927),
"Звон и слово в "Фаусте" Гете" (1931), "Revelatia
(Об Откровении)" (1931-1935), "Жертва. Заметки о смысле мистерии"
(1932-1933), "Gloria (О славе)" (1932- 1936), "Три истока.
Мысли про себя" (1937) и др. В первый период творчества М. увлекался
марксизмом, но выступил и его критиком с позиций анархизма. Однако последний
истолковал через идею мистериального переживания действительности. В творчестве
и жизни Бакунина М. увидел прежде всего творение новых элементов жизни, эстетику
(артистизм) революционного дерзания, единство слова и поступка. Фактически
раннее творчество М. - это нащупывание идей и тем собственного философствования,
подступы к проблеме личности и ее предназначения. Складывание же собственной
концепции связано с поворотом М. к христианству, которое он никогда не
толковал институционально и конфессионально, а видел в нем истоки философии человека.
Основные темы зрелого М. - универсальное общение и онтология поступка,
актуализм и персонализм как исходные принципы философствования. М. создал собственную
концепцию диалогического общения, перекликающуюся с концепцией М.Бахтина и
близкую идеям Бубера. На пути к утверждению принципа личности как абсолютной
ценности М. должен был решить как минимум две проблемы: переформулировать свою
же позицию "революционного дерзания", закрепленную еще со времен
Ницше идею своеволия индивида, и "укоренить" человека в мире. Поработив
природу, человек ("будущий бог") впал в культуртрегерский соблазн -
осознав свою силу, прельщенный властью, человек обрек себя на одиночество,
т.е. на небытие (во всяком случае как личности). М. неоднократно в работах
"переходного" периода предупреждает об опасности ложного самоутверждения
"Я" в культурном идеале. В споре с Бердяевым М. отрицает возможность
оправдания человека через творчество (творческую самореализацию), предполагая
тезис о необходимости овнешнения человека через его разностороннее включение
в общение как предпосылку внутренней свободы человека, как возможность самой идеи
личности. В этом же ключе М. дан анализ философии Фихте (которая рассмотрена
им как проекция протестантизма в вопросах личностной проблематики). Согласно
М., чистое Я Фихте присутствует в акте, не становясь плотью, не воплощаясь,
без чего не может быть личности. Фихтевское Я - "пустое я"
("попрание личности в индивиде"), так как не предусматривает и встречи
с другими "Я" (имеет дело только с "не-Я"). В этом же русле
лежит и анализ языческого и вселенского начал в "душе нации",
который может быть распространен и на отдельную конкретную человеческую душу.
Преобладание "языческого" ведет через утверждение национализма к принципу
мессианистского искупления чужой, но не своей души, т.е. ко лжи. Преобладание
"вселенского" - путь христианский, ведущий к осознанию своей миссии
(жертвенной) в жизни. Таким образом, согласно М., необходима гипотеза о Сущем,
без которой человек не знает, кому адресовать свои запросы о личной судьбе,
которая дает конечное основание для любых оценок и без которой человек впадает
в ложный мессионизм, ведущий к краю бездны. Именно "Верховное Я"
(Сущее) своей любовью рождает в нас личность, когда мы ему открыты, делает
возможным общение с другими людьми. Человек, не покидая почвы конкретной истории
и актуализируясь в современности, должен откликаться на голос Сущего. Однако люди
не способны удержать полностью истины откровения. Это неизбежно ведет к превращению
церкви в "механическую", закрывающуюся в своей институциональности
и конфессиональности, догматизирует доктрину. В результате религиозные ценности
уходят в культуру и требуется новое религиозное сознание, способное воспринять
новое откровение. Для этого необходимо снять с Я присвоенную им атрибутику
ложной божественности, не отрицая культуру, преодолеть ее во имя высших религиозных
ценностей, признать мистериальный (жертвенный) характер культурного творчества.
"Жертвенность" несет в себе онтологический (причинность жертвенного
обмена), актуалистски-деятельностный (единство слова и поступка как условие
устроения бытия по "мере правды") и символически-мифологический
(встреча горнего с дольным) аспекты. Каждый в мире жертвенно предстоит каждому
в сотворческом пространстве диалога "я" с "ты", "я"
с "мы", Бога с миром. Диалог, как основа практической нравственной
философии, проникнут "личностностью" и "тайностностью",
дает жизнь любому содержанию и идее, но до конца не рационализируем. С темой
диалога в философию М. вводится и проблематика "другого". Замкнутость
отдельного "Я" преодолевается в интенциальной устремленности сознания
его напряжением до степени Эроса. "Я" реализует себя лишь спасая
"другого", вступая в диалог с чужой субъективностью "ты"
(жертвенность по отношению к другому как структурирующий диалог признак).
("Другое Я", как противостоящее "чужое", М. фиксирует термином
"он"). Находя "творческий отклик" друг в друге,
"я" и "ты" способны структурировать "мы",
породить новую "общественность", задаваемую не принципами государства
и общества, а строимую по принципам церкви диалогической духовности.
Пространство между "Я" и "другим" структурировано. Оно
заложено "откликами", т.е. высказываниями и волевыми действиями,
направленными на обнаружение смысла жизни, закрепленными в мифах, символах, мистериях,
задающих предпосылки общения. Личность обретает себя, проходя "сквозь"
культуру, "сквозь" всех "других", включаясь в переживание
жертвенной встречи с Абсолютом. Так М. выходит на онтологизацию слова как
поступка, как прорыва мысли к сущему, через превращение жизни в подвиг восхождения
к правде о самом себе, через синхронизацию идеи и биографии. Сам М. этот путь
прошел в полной мере, увлекая многогранностью своих идей и поражая "гениальностью
самой своей личности" (Д.С. Лихачев). |
|
Мейер
Георгий Андреевич |
МЕЙЕР
Георгий Андреевич (7 (19). 02. 1894, Симбирская губ. — 7. 02. 1966, Дьеп,
Франция) — публицист, философ и литературовед. Род. в семье потомка
ливонского рыцаря Мейера фон Зегевольта, перешедшего на службу в России при Иване
Грозном, и внучки писателя С. Т. Аксакова. По окончании реального училища М.
поступил на филологический ф-т Московского ун-та, но через год оставил его.
Гражданскую войну М. провел в белой армии, в 1920 г. эвакуировался в
Константинополь. В 1923 г. переехал во Францию и короткое время сотрудничал в
журн. "Русская земля", в 1925—1940 гг. стал сотрудником газ.
"Возрождение", издававшейся в Париже П. Б. Струве. В нач. 1950-х
гг. неофициально возглавлял журн. "Возрождение", но затем из-за
идеологических разногласий вышел из редакции. В 1959 г. он начинает
печататься в журн. "Грани", где появляются отдельные главы его
книги о Достоевском, оставшейся неоконченной. Литературное наследие М.
насчитывает несколько десятков публицистических и философских статей и 2
книги, изданные уже посмертно. Кн. "Свет в ночи" (о
"Преступлении и наказании"). Опыт медленного чтения".
Франкфурт-на-Майне, 1967) посвящена скрупулезному изучению всех главных
персонажей и сюжетных линий романа. М. исходит из предпосылки, что
"проникнутое мыслью художественное творение — живой духовный организм —
через любую его деталь достигается в целом" (с. 18). Осн. идеей романа
М. считает мысль, что убивающий себе подобных казним призраками небытия. Он
либо должен продолжать грабить и убивать, либо убить самого себя, либо
чистосердечно раскаяться и нравственно переродиться. Вторая книга М. "У
истоков революции" (Франкфурт-на-Майне, 1971) состоит из ряда больших
его статей, написанных в разные годы. Наиболее интересны: "Достоевский и
всероссийская катастрофа", где М. анализирует публицистику Достоевского
и ее соотношение с художественным творчеством писателя; "Дедушка русской
революции", в к-рой автор дает критику мировоззрения Милюкова и в лице
последнего всех "русско-европейских марксо-демократов, верующих в идею прогресса
пуще, чем темный мужик верует в Господа Бога" (с. 105). В небольшом
"Отрывке", к-рым заканчивается книга, М. формулирует свое понимание
"народа" и "нации" и высказывает негативное отношение к славянофильству.
"Нация" и "народ", считает он, слова, противоположные по
смыслу. "Народ" — понятие биологическое, это совокупность всего
населения данной территории, этнографическая масса, не имеющая качественных
характеристик. Напротив, "нация" состоит из личностей, и, "чем
больше индивидуумов похищает нация у народной гущи, одухотворяя их в процессе
похищения, превращая каждого из них из индивида в человеческую личность, тем
крепче в данной стране национальный слой, тем послушнее усмиренная,
взнузданная народная толща" (с. 252). Такое понимание нации в XIX в.
было свойственно, по мнению М., только К. Н. Леонтьеву и до нек-рой степени Чаадаеву.
Только один Леонтьев, последователем к-рого считает себя М., постиг всю
сущность имперской идеи, создавшей Россию. Славянофильство же, напротив,
"опиралось на бытовое исповедничество, но где быт, гам начинается застой
бытия, там снижается и ущемляется все истинно духовное" (с. 253).
Наследие М. изучено еще очень слабо. Между тем среди эмигрантских публицистов
и писателей он занимает отнюдь не последнее место, хотя и на Западе его
популярность не идет ни в какое сравнение с популярностью, напр., Бердяева или
Мочульского. Соч.:
Баратынский и Достоевский // Возрождение. 1950. № 9; Жало и дух: Место
Тютчева в метафизике российской литературы // Там же. 1954. № 32; На грани
сна и бдения // Там же. 1957. № 61, 62; Хождение по мукам // Грани. 1960. №
47—48. |
|
Мейер
Ханс |
МЕЙЕР (Меуег) Ханс (род. 18 дек.
1884, Этценбах, Нижняя Бавария – ум. 30 апр. 1966, там же) – нем. философ и
педагог; с 1922 – профессор в Вюрцбурге. Работал над Аристотелем, Платоном,
стоиками, патристикой, Фомой Аквинским; выступил с «Geschichte der abendlдndlichen Weltanschauung» (5 Bde., 1946-1949), где он, по примеру Дильтея и Греция, с
любовью и пониманием нарисовал картину развития философских проблем, попыток
разрешения и влияния их на мировоззрение людей соответствующей эпохи (включая
знание о космосе, оценки, переживаемый порядок ценностей и формирование
жизни). Это соч. Мейера еще и по сей день является самым объемистым из всех
произв. по истории философии, вышедших из-под пера одного автора. Кроме того,
Мейер написал: «Systematische
Philosophie», 1954-1957. |
|
Мейерсон
Эмиль |
МЕЙЕРСОН (Meyercon) Эмиль (род. 12 февр. 1859,
Люблин – ум. 2 дек. 1933, Париж) – франц. философ и историк науки польского
происхождения. Род. в Люблине,
с 1882 жил во Франции. Осн. область науч. интересов – эпистемология и
история науки. Св. концепцию определял как «философия тождества». Испытал
влияние идей А. Лаланда, П. Дюгема, А. Пуанкаре, а также философии А.
Бергсона. Полагал, что эпистемология изучает формы разума в готовом,
овеществлённом знании и потому необходимо становится историко‑критическим
исследованием науки. В основе разума, по М., лежит априорный принцип
тождества: познание означает отождествление различного. В противовес
феноменологии и позитивизму защищал т. зр., согласно к‑рой наука как
онтология должна исследовать объективные основы вещей, независимые от субъективных
условий ощущения. Познание законов М. противопоставлял познанию причинных
связей. Осн. соч.: «Тождественность и действительность. Опыт теории
естествознания как введение в метафизику» (1908), «Об объяснении в науках»
(т. 1–2, 1921), «Релятивистская дедукция» (1925), «О движении мысли» (1931),
«Реальность и детерминизм в квантовой физике» (1933). Согласно М., теория научного познания
опирается на историю научной мысли. Изучение последней показывает, что,
несмотря на синхронное и диахронное многообразие научных теорий, существуют
устойчивые структуры научного разума, проявляющиеся даже в ошибочных теориях.
Общим знаменателем, указывающим на сходство современных теорий с их далекими
предшественницами, является тенденция к отождествлению различного, лежащая,
по М., в основе научного объяснения. Акцентируя внимание на каузальном
объяснении, М. расходился с позитивистской трактовкой теории как описания.
Принцип каузальности состоит в том, что должно существовать равенство между
причинами и действиями, т.е. первоначальные свойства плюс изменение условий
должны равняться изменившимся свойствам. Сам же принцип причинности совпадает
с принципом тождества, примененным к существованию вещей во времени. Согласно
М., цель теоретического объяснения состоит в замещении бесконечного
разнообразия мира ощущений тождественными во времени и пространстве
отношениями. Уже на уровне здравого смысла фиксируется инвариантность вещей;
наука заменяет ее еще более устойчивыми, стабильными и однородными объектами
и структурами. В механике, напр., все видимое разнообразие явлений сводится к
различиям пространственных фигур и движений. Время в причинном объяснении
постепенно сводится к пространству, как это показывает представление его в
качестве одной из четырех координат пространственно-временного мира в теории
относительности. Вместе с тем в своем стремлении к
объяснению разум неизменно наталкивается на препятствия, не укладывающиеся в
рациональную схему тождества. Между этой схемой и действительностью
существует иррациональный остаток, который не удается свести к чистому
тождеству, что и побуждает интеллект постоянно улучшать свои теории. Научный
разум находится на перекрестке двух противоположных тенденций: стремления к
объяснению через тождество и невозможности осуществить его до конца. Первая
тенденция находит, согласно М., выражение в принципах сохранения, вторая,
связанная с иррациональностью действительности, яснее всего представлена
вторым началом термодинамики, где необратимость времени ведет к нарушению
принципа тождества предшествующего и последующего состояний вещей. Эту концепцию М. выдвинул в своей первой
кн. «Тождественность и действительность» (1907), опираясь на историю трех
принципов сохранения: сохранения скорости (инерции), сохранения материи,
сохранения энергии. М. попытался показать, как этот последний, выражающий
неизменность мира, сталкивается с «иррациональным» принципом Карно,
утверждающим, что такая неизменность невозможна. Вслед за А.Бергсоном М.
полагал, что становление рациональным образом непостижимо. Тем самым
утверждалась недостижимость идеала полностью рационализировать
действительность с помощью человеческого разума. Концепция М. послужила одним
из источников неорационализма, однако трактовка им причинности как априорной
формы разума во многих отношениях еще близка к кантианству. |
|
Мейман
Эрнст |
МЕЙМАН (Meumann) Эрнст (род. 29 авг. 1862, Юрдинген – ум. 26 апр.
1915, Гамбург) – нем. психолог и педагог; профессор с 1911. Принадлежал к
школе Вильгельма Вундта. Явился основателем экспериментальной педагогики. Осн.
произв.: «Vorlesungen zur Einfьhrung in
die experimentelle Pдdagogik», 1911-1920 (рус. пер. «Лекции по введению в
экспериментальную педагогику», 3 части, 1914-1917); «System der Дsthetik», 1914. |
|
Мейнеке
Фридрих |
МЕЙНЕКЕ (Meinecke) Фридрих (род. 30 окт. 1862,
Зальцведель – ум. 6 февр. 1954, Берлин) – нем. историк; с 1901 по 1928 –
профессор в Берлине. Особую известность принес ему труд «Die Entstehung des Historismus» (1936), в
котором он защищает историзм от упрека в том, будто он является отступлением
в прошлое перед лицом современности. Подлинный историзм равнозначен
историческому сознанию и представляет собой «не что иное, как применение к
исторической жизни жизненных принципов, выработанных в процессе великого
движения в Германии от Лейбница до Гёте». Мейнекке написал также: «Persцnlichkeit und geschichtliche Welt», 1918; «Die deutsche Katastrophe», 1949; «Aphorismen und Skizzen zur Geschichte», 1951; «StraЯburg – Freiburg – Berlin», 1949
(автобиография); Werke, 6 Bde., 1957. |
|
Мейнонг
Алексиус фон |
МЕЙНОНГ
(Meinong) Алексиус фон
(род. 17 июля 1853, Лемберг – ум. 27 нояб. 1920, Грац) – австр. философ и
психолог; профессор с 1882. Преподавал философию в университетах Вены (1878-
1882) и Граца (с 1882), где им была основана первая в Австрии лаборатория
экспериментальной психологии (1886-1887). Основные сочинения: "Исследования
Юма" (в двух томах, 1877- 1882), "По поводу предположений"
(1902), "Исследования по теории предметов и психологии" (1904) и
др. М. основал в ун-те Граца филос. школу и создал первую в Австрии
лабораторию экспериментальной психологии. Идеи М. оказали влияние на развитие
неопозитивизма, в частности на ранние работы Б. Рассела. Истолкование М.
разума как интенционального акта было развито в теории интенциональности Э.
Гуссерля. Ученик Ф. Брентано, отвергнувший затем
многие поздние идеи последнего. М. стремился основать новую априорную
дисциплину — «теорию предметности», отличную от метафизики, являющейся
эмпирической наукой, касающейся реальности. «Предмет», по М., не материальный
объект, а данность объекта в переживании, все, на что направлена мысль.
Предметы могут существовать как физические объекты или как математические
сущности, могут быть возможными или невозможными, могут относиться к более
низкому или более высокому уровню, подобно отношениям, «основывающимся» на
своих простых элементах. В теории предметов нужно абстрагироваться от их
существования и сосредоточиться на их сущности. В зависимости от четырех
основных классов переживаний — представления, мысли, чувства, желания — М.
различает четыре класса предметов: объекты, объективное, достойное
(дигнитативное) и желаемое (дезидеративное). К достойному относится истинное,
доброе и прекрасное; к желаемому — объекты долженствования и выдвигаемых
целей. На основе «теории предметности» М. разрабатывал учение об эмоциях, а
также общую теорию ценностей. Разделяя тезис британского эмпиризма,
усматривавшего в "отношениях" и "универсалиях"
"продукты сознания", М. полагал, что теории отношений, истины, значения,
суждения принадлежат к сфере психологии. М. разделил выводы своего ученика,
польского философа К.Твардовского ("К учению о содержании и предмете
представлений" - 1894), вычленившего в структуре "психического
феномена" три отдельных элемента: ментальный акт, содержание этого акта
и его предмет. По мысли М., недопустимо считать содержание и предмет тождественными,
ибо в этом случае то, что расположено перед сознанием (собственно предмет)
непонятным образом оказывается частью (содержанием) схватывания этого
предмета. Физические же тела не могут являться компонентом ментального акта. Даже
в случае размышления о несуществующем предмете (гном или квадратный корень,
например) ментальный акт мышления действительно существует. Соответственно, с
точки зрения М., все, что является частью содержания последнего, тоже должно
существовать: русалка не может быть содержанием ментального акта, но может выступать
его предметом. Одновременно, по модели М., в ментальном акте присутствует
нечто такое - его содержание, что обусловлено его направленностью на данный
(а не какой-то иной) предмет. "Содержание" у М. не есть ни подобие
предмета, ни разновидность ощущения, оно суть качество ментального акта, позволяющее
ему быть направленным на определенный предмет. Амбивалентность человеческого
познания, включающая психическую природу субъекта и предметность его восприятия,
делает, по мысли М., атрибутивной частью гносеологии психологию познания и теорию
предметов. Последняя, согласно М., являет собой "совершенно новую
философскую дисциплину" - учение о чистом предмете как о таковом -
эмпирическое учение, не допускающее каких-либо ограничений на включение в свою
сферу тех или иных предметов. По М., "все есть предмет". М. ориентировался
на косвенное осмысление предмета, указывая на "схватывающие" его
"переживания" (соответствующие психические события), основными классами
которых выступают представление, суждение, чувствование и желание. Все они не
способны конституировать либо модифицировать предмет: предмет всегда логически
первичен по отношению к собственному "схватыванию". По версии М.,
всегда существует некоторое психическое "переживание", ответственное
за презентацию мышлению того или иного предмета. М. выделил два типа предметов:
1) элементарные предметы, сенсорные данные (цвета, звуки и т.п.); 2) предметы
более высокого порядка, к которым им причисляются формы или структуры. Простые
предметы конституируются на основе функционирования периферийных органов чувств,
предметы же высшего порядка - результат продуцирующей активности субъекта.
Так, "желтый лист", по М., есть предмет существующий. Есть предметы
"реальные", но "несуществующие": различие между "желтым"
и "красным" реально, но оно "не существует" в том смысле,
в каком существуют красная книга и красный лист. "Реальные несуществующие"
(например, "число три") М. именует "логически
существующими". Есть и иные варианты - "круглый квадрат"
нельзя полагать ни существующим, ни логически существующим, его место "вне
бытия". Согласно схеме М., правомерно говорить о "внебытии чистого предмета",
т.е. о том, что "имеются" предметы, не имеющие бытия, но имеющие определенные
характеристики. "Необоснованная благожелательность по отношению к
действительности", предполагающая действительность всех предметов, по
мысли М., не оправдана: по его мысли, имеются виды бытия, принципиально
отличные от конкретных единичных сущностей. М. разграничивает предметы-"объективы"
(objectives) и "предметы" ("объективное"), могущие
существовать либо не существовать (алмазная гора, например), но о которых
бессмысленно говорить являются ли они "фактами" или "событиями".
И - наоборот - об "объективах" (существовании алмазных гор)
недопустимо осмысленно утверждать, что они существуют, но в качестве
предметов высшего порядка они "существуют логически", при этом они
либо есть факт, либо не есть факт. По мысли М., мы можем
"предполагать" "объектив", мыслить его существующим, но
не утверждать и не отрицать его (что обязательно для суждения). Твердо настаивая
на объективности (т.е. на том, что они не являются характеристикой
утверждающего или созерцающего сознания) фактов, модальных различий, отношений,
вещей и чисел, М. был вынужден постулировать реальное существование во
Вселенной совершенно фантастических и - мягко выражаясь - странных ее
ингредиентов. Дополняя "объективы" и "объективное" такими
классами предметов, как "достойное" (истинное, доброе и прекрасное)
и "желаемое" ("предметы" долженствования и надобности цели),
М. сформулировал ряд перспективных подходов к теории ценностей. Парадоксальные
выводы онтологии М. приобрели позднее широкую популярность в контексте эволюции
неклассических логик. В 1968-1978 в Граце было издано 8-томное собрание сочинений
М. Осн. произв.: Psychologisch-ethische Untersuchungen zur Werttheorie. Leipzig, 1894; Uber Annahmen. Leipzig, 1902; Uber
die Stellung der Gegenstandstheorie in System der Wissenschaften. Leipzig,
1907; Gesamte Abhandlungen. Leipzig, 1913—1914. Bd 1—2. |
|
Меланхтон
Филипп |
МЕЛАНХТОН (Melanchthon) Филипп, настоящая фамилия
Шварцерд (род. 16 февр. 1497, Бреттен – ум. 19 апр. 1560, Виттенберг) – нем.
теолог и педагог эпохи Реформации; с 1518 – профессор. В качестве основателя
протестант, неосхоластики сохранял известное влияние вплоть до 18 в.,
особенно благодаря своему учению о праве и государстве. Будучи приверженцем
гуманизма, он временно, под влиянием Лютера, отходит от него (к этому времени
относятся его «Theologische Punkte», 1521, –
первая протестант, догматика); несмотря на то что позднее Меланхтон снова
сближается с гуманизмом, он оказывается не в состоянии найти действительный
синтез между гуманизмом и протестантизмом и останавливается на аристотелизме
(гуманистическом). Философская система Меланхтона охватывает диалектику
(учение о логике и познании) как искусство «правильно, систематизированно и
ясно обучать», физику (выступая как противник коперниковской картины мира),
психологию (само это название ведет начало от Меланхтона) – примыкая здесь к
Аристотелю и Библии – и этику. Место метафизики в философии, по Меланхтону,
должна занять теология. В духе Эразма Роттердамского и в противоположность
Лютеру Меланхтон выступает за свободу воли. И уже совершенно самостоятельно
разрабатывает в качестве завершения философии и в качестве этики
обстоятельную систему духовной и гражданской справедливости, которая, с одной
стороны, является этикой убеждения в божественном повиновении, а с другой –
этикой закона десяти заповедей Ветхого завета. Благодаря своей академической
преподавательской деятельности и участию в создании классической гимназии
Меланхтон получил имя «Praeceptor Germaniae» («учитель Германии»). |
|
Мелисс из
Самоса |
МЕЛИСС (Μέλισσος)
из Самоса (5 в. до н. э.), др.-греч. философ, завершитель и систематизатор
традиций Элейской школы. Архаическая темнота стихов Парменида побудила М.
дать ясное прозаическое изложение элейского учения с развернутой
аргументацией. Философский трактат М. «О природе, или О сущем» известен в
основном по конспектам Симпликия и псевдоаристотелевскому сочинению «О
Мелиссе, Ксенофане, Горгии». Из исходного постулата «нечто есть» М.
дедуцирует все атрибуты сущего: оно вечно (в силу закона e nihilo nihil, φρ.
1), бесконечно (φρ.
2-4), одно (т. к. два бесконечных граничили бы между собой, фр. 6), однородно
(т. к. неоднородность имплицирует множественность, фр. А 5), неподвержено
изменениям (росту и убыли; трансформации) и аффектам (боли, печали, фр. 7),
неподвижно (т. к. необходимая предпосылка движения — существование пустоты,
но пустота - «ничто», фр. 7). Полученный таким образом априорный критерий
реальности опровергает данные чувственного опыта: если бы феномены
доксического мира были реальны, то каждый из них (например, «земля, вода,
воздух, огонь, железо») должен был бы обладать атрибутами «того, что есть»
(фр. 8), а это невозможно. Аргумент о бестелесности единого сущего (тело
обладает «толщиной», толщина имплицирует наличие частей, части -
множественность, фр. 9, ср. антиномию множества у Зенона, DK29 В 1) основан на
предположении, что бесконечная протяженность и «полнота» исключает «бестелесность».
Указание на отсутствие «боли» и «печали» в бытии свидетельствует об
этико-психологическом измерении сущего, очевидно, служившего парадигмой
внутреннего спокойствия и душевной неуязвимости мудреца. Отступлений от
Парменида у М. немного (бесконечность бытия, отказ от «вечного настоящего»),
но его аргументация достаточно оригинальна. Отношение М. к Эмпедоклу и
Анаксагору проблематично, влияние на генезис атомистики вероятно. Фрагм.: DK I, 258-276; Reale G. (ed.).
Melisso Samius. Testimonianze e frammenti. Fir.,
1970. |
|
Мелисс из
Элей |
МЕЛИСС ИЗ ЭЛЕЙ – древнегреч.
философ 5 в. до Р. X.,
принадлежал к элейской философской школе, учил о том, что бытие не страдает и
безгранично во времени (времени не существует). О Мелиссе из Самоса известно
очень мало. Он был своего рода систематизатором идей элеатов. В его почти
несохранившемся трактате «О природе, или О сущем» дается ясное изложение
элейского учения. Он повторяет парменидовскую идею о единстве бытия, его
неподвижности, неизменности и добавляет к этому основополагающему положению
идею о бесконечности всего сущего как в пространстве, так и во времени. Мелисс дает очень важную
формулировку так называемого закона сохранения исходя из всего учения
Парменида: «Из ничего никогда не может возникнуть нечто». Гален
свидетельствовал, что Мелисс «того мнения, что в основании четырех элементов
лежит некая всеобщая сущность, не возникшая и не уничтожимая, которую его
последователи называли материей. Этого, однако, он был не в состоянии ясно
доказать. И вот эту сущность он именует всеединым». |
|
Меллин
Георг |
МЕЛЛИН (Meilin) Георг (род. 13 июня 1755, Галле-на-Заале – ум. 11
февр. 1825, Магдебург) – нем. философ; пастор реформистской общины (с 1791),
последователь Канта. Кроме «Marginalien und
Register zu Kants Kritik des Erkenntnisvermцgens» (см. Маргиналии), написал «Enzyklopдdisches Wцrterbuch
der kritischen Philosophie» (1797-1803) и «Wцrterbuch der Philosophie» (1805-1807). |
|
Мелье Жан |
МЕЛЬЕ (Meslier) Жан (1664—1729) — фр.
мыслитель-атеист, сторонник уравнительного коммунизма. Сельский священник.
Свое единственное сочинение, озаглавленное Вольтером «Завещание» (Le
Testament), при жизни не публиковал. Копии его имели широкое хождение во
втор. пол. 18 в. В 1762 Вольтер опубликовал отрывок из него. Полное издание
вышло в свет в 1864 в Амстердаме. Структура сочинения включает восемь
доказательств ложности всех религий, которые рассматриваются как продукт
сознательного обмана народа со стороны «сильных мира сего» с целью достижения
и сохранения своего господства. Шестое доказательство дает, в частности,
широкую панораму злоупотреблений и несправедливостей, чинимых народу.
Тотальная критика феодально-абсолютистской организации общества приводит М. к
отказу от возможности примирения интересов народа и знати. Строго говоря,
знать, по его мнению, не нужна, она не выполняет никакой положительной
социальной функции. Народ же — а это почти исключительно крестьянство —
самодостаточен. Теоретическая основа для такого взгляда — всеобъемлющий
«натурализм». Крестьянин как раз и является «натуральным» человеком,
полностью вписанным в природу. Нет нужды и в просвещенном абсолютизме. М.
ставит перед собой задачу «просветить» народ, обнажив перед ним всю тяжесть
его положения, все предрассудки, которые насаждает в его сознание власть.
Этого достаточно, т.к. М. считает (вслед за Р. Декартом), что всем людям в
равной мере свойствен «естественный свет разума». Заканчивает М.
революционным призывом ко всем народам объединиться и сбросить иго тиранов.
Он мечтает о сельском патриархальном коммунизме, вытекающем из природного
равенства, при котором люди будут сообща владеть дарами земли, объединившись
в семьи-общины. М. призывает уподобиться первым христианам, возвратить на
землю «золотой век», когда все были братьями. Интеллектуальный горизонт М. не
выходит за рамки сельской коммуны. Его жизнь прошла среди крестьян, и его
сочинение — выражение спонтанного протеста сельского населения
предреволюционной Франции. Oeuvres completes. Paris, 1970—1972. Т. J—3.; Волгин В.А. Французский утопический коммунизм. М., 1960; Dommanget M. Le cure Meslier. Paris, 1965. |
|
Менедем
из Лампсака |
МЕНЕДЕМ ИЗ ЛАМПСАКА (Μενέδημος 6 Λαμφακψος) (3 В. ДО Н. Э.), философ-киник,
последователь сначала эпикурейца Колота, затем киников Эхеклеса и Феомброта,
последователя Метрокла из Маронеи. Описание экстравагантных манер M. y Диогена Лаэртия (VI 102) сближает его с Мениппом. Известно о
серии полемических текстов, направленных друг против друга М. и эпикурейцем Колотом
из Лампсака по поводу ценности поэзии, бедности, самодостаточности (автаркии)
- диспут частично сохранился на папирусах из Геркуланума (отрывки сочинений
Колота против Платонова «Лисида» и «Евтидема»: РНегс 208; РНегс 1032). Хотя
кроме этого о М. ничего не известно, он представляет известный интерес как
пример того, что киники иногда вступали в более или менее формальные дебаты с
философами других школ. Ист.: GiANNANTONi, SSR, II, 1990, р. 587-589; IV, 581-583. Лит.: Crönert W. Kolotes und Menedemos,
1906, S. 1-12; 162-172; Giannantoni G. I Socratici minori nei papiri ercolanesi,
- Atti XVII Congr. Intern. Papirologia. T. II. Nap., 1984, p. 522-532; Gigante
M. Cinismo e epicureismo, - Goulet-Caze M.-O., Goulet R. (edd). Le cynisme
ancien et ses prolongements. P., 1993, p. 198-203; Alesse F. La polemica di
Colote contro «socratico» Menedemo, - CronErc 33, 2003, p. 101-106. |
|
Менедем
из Эретрии |
МЕНЕДЕМ ИЗ ЭРЕТРИИ (Μβν&ημος 6 Έρβτριεύς) (ок. 345-261 до н. э.), греческий философ-сократик,
основатель Эретрийской школы (см. Элидо-Эретрийская школа). Был известен как
политический деятель: будучи главой города (πρόβουλος), ездил послом к Птолемею I и Лисимаху,
у Деметрия Полиоркета добился для Эретрии уменьшения ежегодной подати. Учился
философии у мегарика Стильпона, представителей Элидской школы Мосха и
Анхипила, в Афинах слушал академика Полемона и перипатетика Теофраста. Ок.
310-307 возглавил свою школу (о которой, по замечанию Диогена Лаэртия, «он
заботился мало»), во многом близкую к Мегарской. Стильпон был для М. образцом
для подражания, его влияние можно усмотреть в пристрастии М. к обсуждению
проблем предикации, отрицания и условных высказываний. Согласно Антигону из
Кариста, на которого ссылается Диоген Лаэртий (основной источник сведений о
М., см. D. L. II 126-144), сочинений не писал,
прославился в основном своими острыми замечаниями и близким к ки-ническому
мировосприятием, а также дружбой с Асклепиадом из Флиунта. Менедем и Асклепиад
- единственные известные по имени представители «Эретрийской школы». Стремясь
вслед за мегарскими мыслителями избежать превращения одного во множество,
«эретрийцы», по свидетельству Симпликия, избегали приписывать субъекту
предикат (μηδέν κατά μηδενός κατηγορεΐσθαι), и использовали тавтологичные суждения
без применения глагола-связки еатц напр.: человек - человек, белое - белое (In
Phys. 91, 29-31; 93, 32-33). Из идей М. можно также отметить обращение
сократовской формулы «добродетель есть знание» в «только знание есть благо, хотя
и называется многими именами». Среди анекдотов, которыми заполнена глава о М.
у Диогена, сохранились образцы его обсуждений с Алексином софизмов вроде:
«польза и благо - разные вещи?» - «да» - «значит, польза не есть благо», и т.
п., а также критические выпады против стоика Персея. Лит.: GiANNANTONi, SSR1,1983, р. 163-178; Kyrkos В. Α. Ό
Μενέδημος кал ή
Έρβτρι,κή Σχολή
("Ανασύσταση
και Μαρτυρίας). Ath.,
1980; Glucker J. Menedemus the Philosopher (rez. on Kyrkos), - ClassRev 31, 2,
1987, p. 219-222; Knoepfler D. La vie de Ménédème
d'Érétrie de Diogène Laërce. Basel, 1991. |
|
Мен Де
Биран |
МЕН ДЕ БИРАН (Main de Biran) Мари Франсуа Пьер Гонтье де Биран (Gontier de Biran) (1766—1824) — фр. философ и политический деятель. В творчестве
М.д.Б. четко прослеживаются три этапа. Первый включает разработку
сенсуалистической гносеологии: главным произведением этого периода является
работа «Влияние привычки на способность мыслить» (1803); отрицая врожденное
знание, М.д.Б. вслед за Э.Б. де Кондильяком источником идей признает
ощущения, причиной которых являются внешние объекты; истинную философию
отождествляет с «идеологией» (т.е., в понимании М.д.Б., с наукой, исследующей
происхождение, содержание и границы человеческого знания), заимствуя при этом
у Кондильяка мысль о соединении физиологии и «идеологии». Эти выводы М.д.Б.
стремился соотнести с вопросом о влиянии привычки на способность мышления.
Для второго этапа филос. деятельности М.д.Б. характерно учение о волевом
усилии как первоначальном факте внутреннего чувства, разработка которого
сопровождалась размежеванием с позициями «учителей» («Об анализе мышления»,
1806; незавершенный труд «Опыт об основаниях психологии»): активность опыта
представляет собой волевое усилие, не сводимое к физиологическим свойствам,
имеющее «сверхорганический» характер; метафизическая природа души
раскрывается через самонаблюдение индивида. В 1820-х гг. М.д.Б. развивает
идеи христианской метафизики: в «Новых опытах антропологии» (1823—1824)
говорит о трех ступенях человеческой жизни: животной, человеческой и
божественной, выражением которых являются, соответственно, чувственные
ощущения, воля и любовь; историко-философский процесс трактуется как
выражение вечных религиозных и моральных истин. М.д.Б. оказал большое влияние
на развитие зап. философии: на спиритуализм, философию жизни, персонализм,
экзистенциализм и т.д. Oeuvres. Paris, 1920-1944. Vol. 1-14.;
Кротов А.А. Философия Мен де Бирана. М., 2000; Gouhier
H. Main de Biran par lui-meme. Paris, 1970; Lacroze R. Mainde Biran. Paris, 1970. |
|
Менделеев
Дмитрий Иванович |
МЕНДЕЛЕЕВ Дмитрий Иванович
(27.01 (08.02). 1834, Тобольск — 20.01(2.02). 1907, Петербург) — ученый-химик,
энциклопедист, педагог, мыслитель. Род. в с. Верхние Аремзяны недалеко
от Тобольска в семье директора гимназии и попечителя училищ, был
четырнадцатым ребенком в семье. Воспитывала его мать, поскольку отец будущего
химика вскоре после его рождения умер. В 15 лет М. окончил гимназию. Его мать
приложила немало усилий, чтобы юноша продолжил образование. В 1850 г. он
поступает в Главный педагогический институт в Москве, где когда‑то
учился его отец. В возрасте 21 года М. блестяще выдержал выпускные экзамены,
а его дипломная работа о явлении изоморфизма была признана канд. дисс. В
1857 г. М. стал приват‑доцентом при Петербургском ун‑те.
1859‑1861 гг. провёл на стажировке в различных ун‑тах
Франции и Германии. В 1859 г. он сконструировал пикнометр – прибор для
определения плотности жидкости, в 1860 г. открыл критическую температуру
абсолютного кипения жидкостей. В 1863 г. вышел его учебник «Органическая
химия», удостоенный Демидовской премии. В 1865 г. М. защитил д‑рскую
дисс., в к‑рой заложил основы нового учения о растворах, и стал проф.
Петербургского ун‑та. Преподавал М. и в др. высших учебных
заведениях. В 1892 г. назначен хранителем Депо образцовых мер и весов,
преобразованного им затем в Главную палату мер и весов, ставшую серьезным
научно-исследовательским институтом (ныне ВНИИ метрологии им. М.). Открытие
М. в 1869 г. периодического закона стало не только одним из
крупнейших событий в истории химии 19 в., но и в известном смысле одним
из самых выдающихся достижений человеческой мысли минувшего тысячелетия. В
честь М. назван элемент № 101 – менделевий. Деятельность М. как ученого была
многогранна. Но главной его заслугой является открытие (1869) периодического
закона химических элементов, ставшего одним из осн. законов совр. естествознания,
выявившего фундаментальные взаимосвязи природы. По своим философским
воззрениям М. был естественно-научным материалистом, признавал вечность
вещества вместе с эволюционной изменчивостью. Закон сохранения материи и
энергии считал краеугольным принципом науки и научности. Придерживаясь
атомистических представлений, он считал вместе с тем основой мироздания три
первичных начала: "нераздельную, однако и не сливаемую, познавательную троицу
вечных и самобытных: вещества (материи), силы (энергии) и духа..."
(Попытка химического понимания мирового эфира. Спб., 1910. С. 17). В частичке
вещества он усматривал целый организм, живущий, движущийся и вступающий во
взаимодействие с другими в соответствии с объективными закономерностями.
Познание закона (меры действий природы), независимого от представлений людей,
М. считал сутью научного исследования, основой теории и практики. Называя
наблюдение и опыт телом науки, он в то же время признавал большую роль
обобщения. Именно при помощи обобщения результатов опыта, практики наука, с
его т. зр., поднимается до понимания закономерностей (см.: Соч. Т. 2. С. 348).
Научное мировоззрение М. рассматривал как важную предпосылку научного знания,
считал его типом научного знания, "планом, необходимым для
исследования", включал в него общепринятые общетеоретические выводы и
гипотезы. В своей исследовательской деятельности М. использовал элементы
диалектики, особенно в понимании многообразия и взаимодействия мира,
скачкообразного характера в явлениях химизма. Он подверг критике
"энергетизм" В. Оствальда, сводившего все происходящее в мире к
превращениям энергий, но, с другой стороны, он считал себя сторонником
реализма, преодолевающего "крайности" материализма и идеализма,
признающего эволюцию и связь вещества, силы и духа. У него можно встретить
высказывания о том, что последние не сами по себе познаваемы, а во
взаимосвязи и взаимодействии. Свои социологические взгляды М. называл
историческим реализмом, отвергал субъективный метод в социологии, а также
морализирующие и мистические представления. Историю человечества он рассматривал
в связи с развитием промышленности. Земледелие определял как начало, зародыш
всего промышленного развития, к-рое дает об-ву богатство и просвещение.
Промышленный строй жизни М. считал неизбежным для всего мира, как "один
из видов эволюции жизни человечества" (Т. 19. С. 139), знаменующий
вступление его в новую эпоху, когда появятся возможности удовлетворения
жизненных потребностей (как материальных, так и духовных) все увеличивающейся
массы людей. На основе исторического отношения промышленности к земле М. дал
периодизацию истории человечества, выделив 5 ступеней: дикость, близкую к
полуживотному состоянию; первобытно-патриархальное об-во, основанное на
простом собирательстве, охоте, кочевом скотоводстве; оседлое земледелие,
сочетаемое с ручным домашним ремеслом, соответствующее античности и
средневековью; совр. промышленный строй; будущий всеобщий промышленный строй,
где исчезнут социальные антагонизмы, для людей будут созданы условия для
гармоничного развития, общего подъема материального производства и роста
уровня культуры. При этом он выступал за равноправие и мирное сожительство
всех рас и народов, за равномерное распределение создаваемых благ между
странами и отдельными людьми, хотя вместе с тем не был сторонником
уравнительности. Для исторического прогресса, полагал М., необходимо
разнообразие народов, стран, государств, религий, культур и т. д., причем в
промышленную эпоху усиливается взаимозависимость человечества и возрастает
роль общечеловеческих начал. Огромное значение в развитии об-ва придавал
науке, отмечал теснейшую взаимосвязь науки и жизни, доказывал решающую роль
практики, фабрично-заводского промышленного производства для научного
прогресса. Большое место в трудах М. занимают проблемы социально-экономического
развития России. Он рассмотрел мн. стороны жизни об-ва, положил начало
россиеведению, выступал за преодоление технологической отсталости страны, переход
ее на путь промышленного развития, рациональное и интенсивное использование
огромных богатств, ее экономическую самостоятельность, за сильное российское
государство. Соч.: В 25 т. М.; Л., 1937—1952;
К познанию России. Спб., 1907; Проблемы экономического развития России. М.,
1960; С думой о благе российском. Новосибирск, 1991. Лит.: Белов П. Т. Философия
выдающихся русских естествоиспытателей второй половины XIX — начала XX в. М., 1970; Кедров Б. М. День
одного великого открытия. М., 1958; Козиков И. А. Д. И. Менделеев: Заветные
мысли // Социально-политический журнал. 1995. № 3. |
|
Мендельсон
Моисей |
МЕНДЕЛЬСОН (Mendelssohn) Моисей (род. 6 сент. 1729,
Дессау – ум. 4 янв. 1786, Берлин) – нем. философ; с 1754 был в дружеских
отношениях с Лессингом, состоял в переписке с Кантом; защищал иудейство
против Лафатера и Бонне с позиций закона разума. Его соч. «Jerusalem oder ьber religiцse Macht und Judentum» (1783)
оказало решающее влияние на представления Канта, Гегеля, а также их
последователей в отношении иудейской религии. Мендельсон защищал Лейбница
против Вольтера («Philosophische
Gesprдche», 1755), внес свой вклад в теорию чувств («Briefe ьber die Empfindungen», 1755) и в
разрешение проблемы очевидности («Abhandlung ьber die
Evidenz in den metaphysischen Wissenschaften», 1764).
Произв.: «Sдmtliche Werke», 7 Bde., 1843-1844 (издал его внук Георг Вениамин
Мендельсон); «Schriften zur
Philoslphie. Дsthetik und Apologetik», 2 Bde., 1880. |
|
Мережковский
Дмитрий Сергеевич |
МЕРЕЖКОВСКИЙ Дмитрий Сергеевич
(2 (14). 08. 1865, Петербург — 9. 12. 1941, Париж) — писатель, литературный
критик и религиозный философ. Окончив гимназический курс, в 1884—1888 гг.
изучал философию на историко-филологическом ф-те Петербургского ун-та. М.
получил широкую известность благодаря своей разносторонней и интенсивной
деятельности в качестве поэта, романиста и эссеиста; он считается одним из
основателей движения символистов в рус. литературе. После прихода к власти
большевиков он вместе со своей женой 3. Н. Гиппиус в 1920 г. эмигрировал на
Запад и обосновался в Париже, где жил вплоть до своей смерти. В молодые годы
М. увлекался позитивизмом и материализмом и некоторое время находился под
влиянием народнической идеологии Михайловского и Г. И. Успенского. Вскоре,
однако, М. перешел на позиции религиозной идеологии, оставшись ее приверженцем
до конца жизни. Как один из видных представителей богоискательства, М.
стремился возродить влияние христианства, освободив его от тех искажений,
к-рые, по его мнению, были привнесены церковью. В 1901 г. М. и Гиппиус
основали в Петербурге "Религиозно-философские собрания",
объединившие представителей интеллигенции и церковных деятелей для ведения
откровенных дискуссий по религиозным вопросам. В это же время, начиная со
своего первого значительного критического исследования "Лев Толстой и
Достоевский" (1901—1903), он стал разрабатывать собственные
религиозно-философские воззрения. Вместе с Бердяевым и др. М. призвал к
формированию "нового религиозного сознания" — концепции, к-рую он
развивал в течение ряда последующих лет в очерках, собранных в двух книгах —
"Грядущий Хам" (1906) и "Не мир, но меч" (1908).
Понимание М. "нового религиозного сознания" было лишено ясности и
философской глубины, свойственной Бердяеву, тем не менее оно содержало
определенные онтологические, гносеологические и историософские аспекты.
Краеугольным камнем взглядов М. было убеждение в том, что историческое
христианство своим чрезмерным подчеркиванием духовного начала привело к
отрицанию священности плоти и оказалось неспособным понять их
"мистическое единство" и равноценность. Первоначальное, или
истинное, христианство, считал М., не совершало этой ошибки. В его
интерпретации все три великих христианских таинства основываются на единстве
тела и духа: в воплощении Бога во Христе, когда слово становится плотью; в
причащении святых тайн, освящении плоти и крови (в евхаристии) и в
воскресении, когда плоть становится вечной. Хотя М. часто рассматривают как идеалиста
в онтологии, он, скорее всего, находился на пути к своеобразному спинозизму,
в к-ром обладающая протяженностью материя и не обладающий протяженностью дух
рассматриваются не как взаимно исключающие друг друга начала, а как два
измерения или полюса единой субстанции. В противоположность Бердяеву, к-рый
настаивал на том, что "новое религиозное сознание" основывается на
идеалистической онтологии, М. постоянно подчеркивал физические, плотские
аспекты реальности, включая сексуальные, отмежевываясь от того, что он
называл "бесплотным идеализмом". Свою позицию он предпочитал
называть "мистическим материализмом" или "мистическим реализмом".
Он считал возможным будущее, развитое состояние материи, т. наз.
"сверхорганическую материю", когда "святость" материи
стала бы реальностью не только для мистического познания, но и для обычного
эмпирического познания. В своей гносеологии М. выделял три разновидности
познания. Эмпирическое познание служит источником знания о
пространственно-временном мире, это знание служит науке. Метафизическое
познание основывается на разуме, к-рый М. интерпретирует (в духе, близком
кантианству) как способность поступать в соответствии с определенными
законами, налагаемыми сознанием на действительность, с тем чтобы сделать ее
познаваемой конечным человеческим разумом. И, наконец, мистическое познание
представляет собой мгновенное, интуитивное схватывание сознанием надэмпирических
и надрациональных истин — таких, как христианский догмат о Троице, основанный
на своеобразном понимании единства духовного и материального бытия. Как и др.
выразители "нового религиозного сознания", М. считал, что конечная
"тайна" бытия доступна лишь тем мыслителям, к-рые не подавляют свои
мистические способности или не позволяют им атрофироваться. В то же время М.,
в отличие от др. богоискателей, не отвергал полностью др. познавательные
способности; напр., его вера в возможность постижения единства тела и духа
опытным путем в "сверхорганической" материи свидетельствует о том,
что он возлагал надежду на усовершенствование эмпиризма в будущем.
"Мистическое единство" плоти и духа, согласно М., не является
статичным, застывшим. Оно развертывается в недрах человеческой истории как
триадический диалектический процесс, результатом к-рого станет радикальное
преобразование существующего космического и социального порядка. Излагая
триадическую концепцию развития мировой истории, М. принимает язычество в
качестве тезиса, а историческое церковное христианство в качестве антитезиса.
Язычество превозносило плоть в ущерб духу, тогда как христианская церковь (в
отличие от истинного откровения Христа) стала на путь аскетизма и умерщвления
плоти. Ныне историческое христианство исчерпало свою роль в качестве
антитезиса язычеству и на очереди стоит стадия синтеза. Этот синтез, полагал
М., будет осуществлен посредством "Третьего Завета", к-рый станет
завершением двух предыдущих стадий и провозвестником новой религиозной эры в
жизни человечества; в результате окончательного слияния плоти и духа
установится истинная религия. Религиозная жизнь сольется с мирской жизнью,
освящая последнюю и очищая ее от всех проявлений власти и вражды. Сама
история придет к концу, и человечество вступит в
"сверхисторическую" стадию вечного блаженства. Хотя М. не
разработал особой политической философии, его философия истории включает в
себя идеи, касающиеся политических отношений вообще и рус. государства в
частности. Он ассоциировал самодержавие в России с историческим христианством
— особенно с православной церковью — за исключением кратковременного периода
в нач. XX в., когда он
симпатизировал обоим ин-там, считал, что они должны быть устранены грядущим
синтезом. В Москве, как и в Древнем Риме, полагал он, государство подчинило
себе церковь и царь заменил собой Бога; следовательно, и церковь, и ложное
божество должны быть устранены. М. был убежден в том, что политическая
революция должна произойти одновременно с духовной революцией, в результате
чего самодержавие царя-Бога уступит место теократии истинного Бога. При этом
он описывал грядущую теократию только в самом общем виде, окрашенном
утопической надеждой: об-во станет религиозной общиной; ненависть будет
побеждена любовью, а эгоизм заменен самоуважением и равноправием личностей;
антиномию между анархизмом и социализмом преодолеет подлинный синтез
индивидуальности и социальности. По мере того как власть большевиков в России
укреплялась, он ввел новую триаду применительно к российской
действительности: от самодержавной, православной России как тезиса и антирелигиозной
коммунистической России как антитезиса к истинно религиозной, теократической
третьей России как завершающему синтезу. Последние годы жизни М. отмечены
крайней враждебностью по отношению к советскому режиму, в к-ром он усматривал
воплощение зла. Для борьбы с ним он уповал даже на таких
"союзников", как лидер итал. фашистов Б. Муссолини. Соч.: Поли. собр. соч.: В 24 т.
М., 1914; Избр. статьи. Мюнхен, 1972; Собр. соч.: В 4 т. М„ 1990. Лит.: Бахтин Н. Мережковский и
история // Звено. 1926.24 янв.; Ильин В. Н. Памяти Д. С. Мережковского //
Возрождение. 1965, № 168; Кувакин В. А. Религиозная философия в России. М., 1980. С. 75—105; Scanlan J. P. The New Religious
Consciousness: Merezhkovsky and Berdiaev // Canadian Slavie Studies, vol. IV.
N1 (Spring, 1970); Bedford С H. The Seeker: D. S.
Merezhkovsky. Lawrence (Kansas), 1975; Pachmuss T. Merezhkovsky in exile: The
Master of the genre of biographie-romancer. N. U., 1990. |
|
Меркулов
Игорь Петрович |
МЕРКУЛОВ Игорь Петрович (р. 1945) —
специалист в области эпистемологии и философии науки. Окончил филос.
факультет МГУ (1969), аспирантуру Ин-та философии АН СССР (1972). Работает в
Ин-те философии АН СССР (ныне РАН) с 1972, в настоящее время — зав. сектором
эволюционной эпистемологии Ин-та философии РАН. Доктор филос. наук (1983),
старший научный сотрудник (1984). Автор трех монографий. Первые работы М. посвящены исследованию эпистемологических
и методологических проблем развития научного знания — анализу
гипотетико-дедуктивной модели научных теорий, соизмеримости теорий, критериев
научности теоретического знания, и т.д. В дальнейшем в его поле зрения
оказывается круг вопросов, связанных с методом гипотез и ролью этого метода в
развитии познания, с построением моделей роста теоретического знания в эпоху
научных революций. Отталкиваясь от эволюционных представлений и используя
возможности информационного подхода к исследованию процессов роста научного
знания, М. в своих трудах 1980-х гг. разработал модель формирования новых
научных теорий, отправным пунктом которой выступают селективно ценные ad hoc
гипотезы. Эти гипотезы, как правило, возникают в виде вновь разработанных
математических моделей, получающих на первых порах хотя бы частичное
подтверждение на основе каких-то фрагментов уже имеющегося научного знания.
Порождая «промежуточные» теории, они задают логику эволюции знания в эпоху
научных революций. В 1990-х гг. основное внимание М. уделял
исследованию когнитивных аспектов эволюции познания и мышления. Он разработал
собственный вариант эволюционной эпистемологии, ориентированной на интеграцию
эволюционных представлений с достижениями когнитивной науки, где когнитивная
эволюция человека и эволюция его ментальности оказываются постепенным
многоэтапным процессом смены доминирующего когнитивного типа мышления — по
преимуществу пространственно-образного мышления — мышлением преимущественно
знаково-символическим (логико-вербальным). Как самоорганизующиеся системы,
когнитивные типы мышления зависят от своего прошлого состояния, но их
настоящее однозначным образом не детерминируется предшествующей историей.
Поэтому у когнитивной эволюции нет «законов эволюции» или «законов исторического
развития», которые управляли бы необходимыми стадиями эволюции мышления на
протяжении всей эволюционной истории человечества. По мнению М., доминирующие
когнитивные типы мышления в известных границах направляют культурную эволюцию
этнических общностей (популяций и этнических групп) в определенное русло, а
изменения на когнитивном уровне (в способах обработки когнитивной информации)
получают соответствующую репрезентацию в духовной культуре, в
мировоззренческих структурах — в религиозно-теологических доктринах, в филос.
учениях, науке, искусстве и т.д. Гипотетико-дедуктивная модель и развитие
научного знания. М., 1980; Метод гипотез в истории научного познания. М.,
1983; Когнитивная эволюция. М., 1999. |
|
Мерло-Понти
Морис |
Мерло-Понти Морис (1908-1961) -
французский философ, представитель феноменологического направления. Во время
второй мировой войны участвовал в движении Сопротивления вместе с рядом
выдающихся ученых своего времени, в частности с Сартром, с которым он основал
в 1945 г. журнал «Les Temps Modemes». До 1950 г. он был политическим
редактором журнала, давая на его страницах экзистенциалистский анализ мировых
событий. Он симпатизировал коммунистам, хотя и не вступил в ряды компартии. В
1952 г. он - профессор философии в Коллеж де Франс. Его главные работы:
«Феноменология восприятия» (1945), «Гуманизм и террор» (1947), «Первенство
восприятия» (1947), «Смысл и бессмыслица» (1948), «Приключения диалектики»
(1955), «Знаки» (1960), «Видимое и невидимое» (1964). Политическая философия
Мерло-Понти соединяет в себе три главных философских направления:
феноменологию, экзистенциализм и марксизм. Феноменология содержит описание
того, как возникает значение в явлениях окружающего нас мира, а также
систематическое «вопрошание» всех этих смыслов явлений, которые мы ежедневно
воспринимаем как данное. Мерло-Понти утверждает, что мы прежде всего
структурируем нашу среду через акты восприятия, которые представляют собой
сложное взаимодействие между нашими телами и миром. Он говорит, что теории, с
помощью которых мы осваиваем «жизненный мир», могут быть только
предварительными, временными и вторичными описаниями более полного и более
живого опыта, который они никогда не смогут исчерпать полностью. Они имеют
характер отдельных первоначальных чувственных восприятий. Это приводит Мерло-Понти к
экзистенциализму, который утверждает, что существование всегда предшествует
сущности: мы никогда не можем выйти за пределы нашей ситуации, чтобы оценить
ее, не можем достичь абсолютного знания. Знание возникает через действие,
благодаря которому мы придаем смысл миру. Когда мы описываем смысл истории,
мы обязаны признать, что природа этого смысла временная и не исключает
добавочных интерпретаций. В этом состоит экзистенциальная
феноменология Мерло-Понти, которая лежит в основе его воззрений. Она
направлена против тех идеологических концепций и движений, которые стремятся
дать всестороннее толкование исторической ситуации и ее решение. Он
рассматривает такие доктрины как рационалистические, считающие, что мир
полностью познаваем и контролируем. По мнению Мерло-Понти, эту ошибочную
позицию занимает либерализм, полагающий, что индивиды способны достигать
рациональных решений, а также ортодоксальный марксизм, считающий, что законы
истории можно познать. Согласно Мерло-Понти, позиция
марксизма, полагающего, что существует единственный путь развития и что
только рабочий класс выражает истину, не диалектична. Общества, созданные на
основе такого подхода, неизбежно несут на себе печать инертности, закрытости,
насилия, ибо они не могут приспособиться к борьбе и неожиданным ситуациям,
которые порождают временные предположительные решения. Мерло-Понти полагает,
что история случайна и что политическая деятельность - рискованное
предприятие. Сначала он называл такую позицию
феноменологическим марксизмом, но позднее он определил ее как новый
либерализм. Подход Мерло-Понти не навязывает предвзятых решений событиям. Он
признает, что мы не можем контролировать историю, потому что ее институты
возникают внутри мира, где индивидуальные действия дают результат, за который
никто не несет ответственности. Таким образом,
феноменологическая концепция Мерло-Понти признает, что разум вступает в мир
только в качестве конкретного проекта. Он продвигается вперед через борьбу.
Он не имеет гарантий. Он не является заранее существующей идеей, которая
может навязываться от нашего имени. Политика состоит в том, чтобы
интерпретировать события, она является революционной, потому что не имеет
конечных целей. Свобода наша лежит в нашей способности постоянно превосходить
данную ситуацию, тем самым открывая новые возможности при аккумулировании
традиционных истин. В своих работах Мерло-Понти
полагает, что следует постоянно задавать вопросы о смыслах окружающих
явлений, с которыми мы ежедневно сталкиваемся, и предлагает философские и
политические обоснования для осуществления этой задачи. |
|
Мерсенн
Марен |
МЕРСЕНН (Mersenne) Марен (род. 8 сент. 1588,
Сультьер, Сарта – ум. 1 сент. 1648, Париж) – франц. математик и теоретик
музыки; в 1611 вступил в орден миноритов, был близким другом и верным
советчиком Декарта и, несмотря на свое ортодоксальное католич. верование,
посвятил себя точным естественным наукам, математике и музыке. В «Cogitata physicomathematica» (3 v., 1644) аристотелизм и католич. догму он соединил с
выводами современных ему естественных наук; в своем труде «Harmonie universelle» (2 v., 1636-1637) впервые после Галилея выдвинул учение о
субъективности чувственных качеств. |
|
Мертон
Роберт Кинг |
МЕРТОН (Merton) Роберт Кинг
(1910–2003) – амер. социолог и философ науки, автор концепции устойчивого
этоса науки. Почётный проф. Колумбийского ун‑та, с 1957 – президент
Американской социол. ассоциации. Представитель структурно‑функционального
анализа. В ранний период творчества испытал заметное влияние идей М. Вебера и
Э. Дюркгейма. Тема науки как соц. ин‑та – одна из основных у М.,
ставшего, по сути, основателем социологии науки, с позиции к‑рой он
сформулировал тезис: любые общие теории явл‑я лишь теоретико‑методологическими
ориентациями, т.е., по сути, филос. концепциями (см. Концепция). Цель
(основная задача) науки, с т. зр. М., заключается в постоянном росте массива
достоверного науч. знания. Для достижения этой цели необходимо следовать 4
осн. императивам науч. этоса: универсализм (внеличностный характер науч.
знания), коллективизм (сообщения об открытиях другим учёным свободно и без
предпочтений), бескорыстие (организация науч. деятельности таким образом,
будто постижение истины явл‑я её осн. мотивом) и организованный
скептицизм (исключение некритического принятия результатов исследования). В
конце 1940‑х начался новый период творчества М., связанный с развитием
структурно‑функциональной теории. Созданная М. парадигма
функционального анализа стала методологич. основой формирования т.н. теорий
среднего уровня, объединяющих эмпирич. исследования и общую теорию
социологии. М. принадлежит весомый вклад в развитие теории и методологии
исследования массовой коммуникации. Осн. соч.: «Наука, техника и общество в
Англии 17 в.» (1938), «Социальная теория и социальная структура» (1957,1968),
«О теоретической социологии» (1967), «Социология науки» (1973), «Структурный
анализ в социологии» (1975), «Подходы к изучению социальной структуры» (1975)
и др. |
|
Мессер
Август |
МЕССЕР (Messer) Август (род. 11 февр. 1867, Майнц – ум. 11 июля
1937, Росток) – нем. философ и педагог; с 1904 – профессор в Гиссене.
Находился под влиянием Кюльпе, работал
в области экспериментальной психологии мышления («Empfinden und Denken», 1908), исследований
философии Канта («Immanuel Kant, Leben
und Philosophie», 1924), педагогики («Geschichte der Pдdagogik» 1925) и в
области теории познания («Einfьhrung in die
Erkenntnislehre», 1909). |
|
Местр
Жозеф Мари |
МЕСТР (Maistre) Жозеф Мари де граф (род. 14 апр. 1753, Шамбери – ум.
26 февр. 1821, Турин) – франц. политический деятель и философ. Воспитывался в иезуитской школе. Окончил Туринский ун-т (1774).
В молодости придерживался либеральных идей. Защищал
резко выраженное консервативное католич. учение о государстве, в эпоху
Реставрации пользовался большим влиянием. Основатель новейшего
ультрамонтанизма: абсолютная власть над всеми народами земли принадлежит
церкви и папе, постоянному наместнику Бога. Осн. произв.: «Essai sur le principe generateur des
constitutions politiques», 1810; «Les soirees de St. Petersbourg, ou le gouvernement temporel de la providence», 2 vol., 1821; «Du pape», 2 vol., 1819. Увлекался масонским иллюминизмом, мечтая
преобразовать религиозное сознание в Европе. В дальнейшем, наряду с Э. Бёрком
и Л. Бональдом, стал выразителем клерикально-монархической реакции на
просветительскую идеологию. В 1802—1817 занимал пост посланника сардинского
короля в Петербурге, где написал свои основные соч.; «О папе» (1819),
«Петербургские вечера...» (1821) и др. Одна из руководящих идей зрелого М. —
неспособность человека своими силами установить стабильный социальный
порядок. История, или, в терминах М., «экспериментальная политика»,
показывает, что человек, предоставленный самому себе, склонен к разрушению, а
не к созиданию. По своей природе он раб и способен только имитировать внешние
характеристики заданных свыше социальных ин-тов. Кроме того, человек
естественно зол. М. сознательно противопоставляет эту свою т.зр.
руссоистскому идеалу естественной добродетельности человека. Зло, присущее
человеку, — прямое следствие первородного греха, который играет
фундаментальную роль в историософии М. Этот грех образует фон истории и
одновременно ее тайну. М. выступает против теории прогресса. Историю скорее
следует понимать как непрекращающуюся деградацию. Естественное состояние
человека, к которому апеллирует Ж.Ж. Руссо, — иллюзия. Естественный человек —
это человек «поврежденный». Он никак не может служить образцом для
подражания. Эдем окончательно утрачен. Порядок в обществе может быть
обеспечен только «из-под палки». Отсюда скандально известная апология палача
как гаранта социального мира. Эмансипация человека, совершившаяся в эпоху
Просвещения, закономерно привела к «сатанинской» Французской революции, когда
сувереном стал народ, разрушивший основные общественные устои — гос-во,
церковь, веру. Социум, по мнению М., может плодотворно существовать, только
основываясь на религии. Абсолютный суверенитет монарха обусловлен данной ему
божественной санкцией. Оптимальной формой правления М. считает теократию,
воплотившуюся в средневековой Европе в духовной власти пап. Ваук F. Les idees politiques de J. De Maistre. Paris,
1945; Lebrun R. Throne and Altar, the Political and Religious Thought of J.
De Maistre. London, 1965; Ploncard d'Assac J. Enquete sur le nationalisme. J.
De Maistre. Paris, 1969. |
|
Метродор
из Лампсака |
МЕТРОДОР ИЗ ЛАМПСАКА
(Μητρόδωρος
6 Λαμφακψός)
(330-277 до н. э.), последователь Эпикура, его любимый ученик и ближайший
друг, назвал в честь Эпикура своего сына. М. умер на семь лет раньше своего учителя,
и Эпикур посвятил ему сочинение «Метродор» в 5-ти 28-ю кн., а книгу сочинения
«О природе» написал в форме обращения к М. В 1-й кн. «Метродора» Эпикур писал
о том, что М. был несгибаем перед всякими тревогами и самой смертью (D. L. X
23). В своем завещании Эпикур указал, чтобы его наследники и новый схоларх Гермарх
позаботились о сыне и дочери M.,
a
также напоминал, чтобы 20 числа каждого месяца эпикурейцы отмечали его
память. В гномологиях часто одни и те же изречения приписывались и Эпикуру, и
М, а сам Эпикур считал, что М. «из тех, кто охотно идет по пятам» (Sen. Ер.
52, 3). М. был плодовитым автором. Согласно списку его сочинений, представленному
у Диогена Лаэртия (D.
L.
X 25; список не полон), он был автором: «Против лекарей», «О чувствах», «Против
Тимократа» (брат М., предавший Эпикура и написавший клеветническое сочинение
о нем), «Об Эпикуровой помощи», «Против диалектиков», «Против софистов» в 9
кн., «О дороге к мудрости», «О перемене», «О богатстве», «Против Демокрита»,
«О знатности». Кроме того, известно также о его полемических сочинениях «Против
Платонова "Горгия"» в 2 кн., «Против Платонова
"Евтифрона"», «Против тех, что одобряет риторов, исходя из
натурфилософии», «О богах», «О поэтах», «О поэзии», и др.В трактате «О поэтах»
критиковал Гомера и утверждал, что совершенно не важно знать, на чьей стороне
был Гектор, на греческой или троянской, и не важно знать, как расположены стихи
в поэме (Plut.
Non posse suav. 2; 12). Отрицал значение
традиционной образованности, поэзии и риторики; считал, что научное познание
самостоятельной ценности не имеет; полемизировал с Демокритом по поводу
природы человека; критиковал Навсифана; выступал против участия в
политической жизни. В трактате «Об изменении» (Philod. De piet., fr. 123 Gomperz;
Körte, fr. 12); ср.: D. L. X 139) имелись
суждения, проливающие свет на содержание эпикурейских представлений о богах,
существующих «в виде чисел» (κατ'
αριθμών).
Фрагм.: Körte A. Metrodori Epicurei Fragmenta. Lpz., 1890; Epicurea. Ed.
H. Usener. Lipsiae, 1887 (Stuttg., 1966); Epicuro. Opère. Ed. G.
Arrigetti. Tor., 1960 (1973). Лит.: Sudhaus S. Eine erhaltene Abhandlung
das Metrodor, - Hermes 41, 1906, S. 48-58; Philippson R. Papyrus
Herculanensis 831, - AJP 64, 1943, p. 148-162; Laurenti R. Filodemo e il
pensiero economico degli epicurei. Mil, 1973; Keenan J. A Papyrus Letter
about Epicurean Philosophy Books, - Getty Museum 5, 1977, p. 91-94; Spinelli
E. Metrodoro contro i dialettici, - CronErc 16, 1986, p. 29-43; Tepedino
Guerra A. Metrodoro contro i dialettici, - Ibid. 22, 1992, p. 119-122; Idem. II
pensiero di Metrodoro di Lampsaco, - Franchi dell' Orto L. (ed.). Ercolano
1738-1988: 250 anni di ricerca archeologica. R., 1993, p. 313— 320; Боричевский
И. И. Древняя и современная философия науки в ее предельных понятиях. Ч.
1.М.; Л., 1925. |
|
Метродор Стратоникейский |
МЕТРОДОР
СТРАТОНИКЕЙСКИЙ (Μητρόδωρος
6 Στρατονυκενς)
(кон. 2 в. до н. э.), философ-академик, один из ближайших приверженцев Карнеада
(IAHerc.
26; Cic. Or. 1, 45). Согласно Диогену Лаэртию (D. L. X 9), до встречи с
Карнеадом был эпикурейцем. Наибольшую известность имела его интерпретация
взгляда Карнеада на мудреца, который может «ничего не воспринимать чувствами,
но все же иметь мнения» (Cic. Acad. II 78). По мнению Клитомаха, Карнеад
высказывал это положение в учебных целях («диалектически»), сам его не
поддерживая (т. е., по Клитомаху, Карнеад осуществлял эпохе в абсолютном
смысле и на самом деле воздерживаемся от каких бы то ни было суждений), М,
напротив, считал, что это собственная позиция Карнеада (т. е. последний
осуществлял эпохе в нестрогом смысле и от суждений не воздерживался). Цицерон
в этом вопросе был сторонником Клитомаха, с ним солидарны и современные исследователи,
мнение же М. нашло поддержку со стороны Филона из Ларисы. Лит.: Striker G. Sceptical strategies, -
Schofield M., Burnyeat M., Barnes J. (edd.). Doubt and Dogmatism. Oxf., 1980,
p. 54-83; Sedley D. The Motivation of Greek Scepticism, -Burnyeat M. (ed.).
The Skeptical Tradition. Berk., 1983, p. 9-29; Görler M. Metrodoros aus
Stratonikeia, - GGPh, Antike 4, 1994, S. 905-906; Brittain Ch. Philo of
Larissa: the last of the Academic sceptics. Oxf., 2001; Glucker J. The
Philonian/Metrodorians: problems of method in ancient philosophy, - Elenchos 25,
2004, p. 99-153 (особ. 118-133). |
|
Метродор
Хиосский |
МЕТРОДОР ХИОССКИЙ (ΜητΡό8ωρος
6 Χίος)
(нач. 4 в до н. э.), др.-греч. философ, ученик Несса Хиосского и Метродора
Абдерского, последователей Демокрита. Автор сочинения «О природе», которое он
начинает со скептического утверждения «никто из нас ничего не знает, мы даже
того не знаем, знаем мы или не знаем, ни того, существует ли вообще что-либо»
(DK70
В 1 = Eus.
Pr.
Εν.
XIV 19, 9). Однако скептицизм вступления (оказавший, по мнению Евсевия,
влияние на самого Пиррола, Ibid.)
не помешал М. излагать далее догматическое учение в духе атомизма Демокрита:
бесконечная Вселенная состоит из атомов и пустоты, в ней бесконечное число
космосов. В отличие от Демокрита, М. считал Вселенную вечной, аргументируя
тем, что допущение возникновения Вселенной предполагает допущение
возникновения из не-сущего (что невозможно согласно закону сохранения бытия);
бесконечность - следствие вечности: у Вселенной нет начала, откуда бы она
начиналась, ни границы, ни конца (Рг. Εν. Ι 8, 11). Второй сохранившийся фрагмент
гласит: «О чем ни подумаешь, все существует» (XIV 19,9.4-5). У Евсевия
имеется также отдельная глава «Против последователей Метродора и Протагора,
по учению которых следует верить одним только чувствам» (XIV 20, 1-14), в
которой он, в частности, представляет М. одним из адресатов критики Платона в
«Теэтете» за гносеологический релятивизм. Доксографы сообщают также о
взглядах М. на различные метеорологические явления. М. — одно из звеньев цепи
«атомистического преемства», связывающей Демокрита с Эпикуром через Диогена
из Смирны: учеником М. был Диоген из Смирны, его ученик - Анаксарх (один из
наставников Пиррола), учеником последнего называют Навсифала, учителя Эпикура
(см. Clem. Strom. I 14, 64). Это преемство может служить пояснением как истории
знакомства Эпикура с атомизмом Демокрита, так и традиционной эпикурейской
критики Демокрита за скептицизм. Фрагм.: DK II,
231-234; Маковелъский А. О. Древнегреческие атомисты. Баку, 1946. Лит.: Lebedev Α. Φύσις ταλαντεύουσα.
Neglected
fragments of Democritus and Metrodorus of Chios, II, - Proceedings of the
First international Congress on Democritus, Xanthi, 6-9 Oct. Xanthi, 1984, p. 13-18; Brunschwig J. Le
fragment DK70 Bl de Metrodore de Chio, - Algra К., Van Der Horst R W. (edd.). Polyhistor:
Studies in the History and Historiography of Ancient Philosophy, presented to
J. Mansfeld. Leiden, 1996, p. 21-38. |
|
Метрокл
из Маронен |
МЕТРОКЛ (Μητροκλής)
из Маронеи во Фракии (2-я пол. 4 в. н. э.), др.-греч. философ, последователь Кратета
из Фив, брат Гиппархии, жены Кратета. Основные источники о жизни М. - 6-я
книга Диогена Лаэртия (D. L. VI 94-95) и диатриба Телета «О бедности и
богатстве». Приехав в Афины, М. пробовал изучать философию в наиболее
известных философских школах: по сообщению Диогена Лаэртия, в Ликее слушал
перипатетика Теофраста (очевидно, после 323, когда тот принял руководство
школой), также учился у академика Ксенократа (согласно Телету, SSR cap. V Η, fr. 44). Телет
приводит воспоминания М. об учебе и больших издержках, связанных с публичным
и роскошным образом жизни (вероятно, М. был из обеспеченной семьи, о чем
говорит сам выбор места обучения, а также то, что у него были слуги, а из
дома ему присылали большое содержание). Изучение философии в аудиториях Ликея
прервалось досадным недоразумением, после которого М., по-видимому, столь же
стеснительный, сколь и гордый, решил уморить себя голодом, но в его судьбе
принял участие Кратет, который по-кинически соединив смешное и серьезное,
своей психотерапией спас М., - и тот примкнул к новому для Афин движению,
научившись у Кратета искусству кинической автаркии - ни в чем не нуждаться и
быть всем довольным. Диоген со ссылкой на «Изречения» (XpeÎai) стоика Гекатона передает,
что свои записи лекций Теофраста М. сжег. Плутарх Херонейский также упоминает
о М.; по его сведениям (Plut.
Vit.
infelicit.
3, 499b.),
M.,
став киником, вел аскетический образ жизни (спал зимой в овчарне, а летом - в
пропилеях храма), по-видимому, отправился в далекие странствия на Восток (в
Персию и Мидию). Пренебрегая заботами о теле, М. вполне усвоил кинический
максимализм в учении о добродетели и обычай обличения порока. Так, Плутарх
приводит его слова, адресованные мегарику Стильпону о том, что его беспутная
дочь позорит его (Plut.
De tranqu.
6, 468а, ср. тот же сюжет в биографии Стильпона, D. L. II 114), на что,
правда, получил от Стильпона ответ, достойный отца и философа. М. иногла
называют создателем литературного жанра хрии (χρβία),
краткого рассказа об исторической личности с назиданием. Он стоял у истоков
кинической литературной традиции, сочинив сборник о Диогене Синопском с
записями его изречений (D.
L.
VI41). Диоген Лаэртий выписал всего несколько изречений самого М. («вещи
покупаются или ценою денег, как дом, или ценою времени и забот, как
воспитание»; «богатство пагубно, если им не пользоваться достойным образом»).
Подобные сентенции стали тем словом о реальной жизни, к которой М. пришел,
оставив «сонные виденья преисподней» (с этими словами он в молодости бросил в
огонь лекции Теофраста). Фрагм.: GiANNANTONi, SSR, И, р. 581-583 (cap. V
L.
Metrocles Maroneus);
Антология кинизма. Изд. подг. И. М. Нахов. М, 1984. 1996, с. 75-76. Лит.: Goulet-Cazé М.-О. Metrocles de Maronée, - DPhA IV, 2005, p. 499-501. |
|
Мехтильд
Магдебургская |
МЕХТИЛЬД МАГДЕБУРГСКАЯ (Mechthild von Magdeburg) (род. ок.
1212, близ Магдебурга – ум. 1285, Хельфтский монастырь цистерцианцев, близ
Эйслебена) – первая из значительных женщин-мистиков, писавших на нем. языке.
Ее соч. «Das flieЯende Licht der
Gottheit», сохранившееся только на южнонем, языке и в лат. пер.
«Lux divinitatis», должно было, очевидно,
повлиять на Данте. Главное внимание Мехтильд уделяет рассмотрению вопроса о
благородстве души перед Богом; свои образы она черпала скорее в природе, чем
в жизни народа. |
|
Мецжер
Элен |
МЕЦЖЁР (Metzger) Элен (1889—1944) — фр.
историк и философ науки. Свою научную деятельность М. начала в качестве
кристаллографа, но вскоре увлеклась историей науки. В 1918 была опубликована
ее докторская диссертация «Генезис науки о кристаллах», в которой
показывалось, как в кон. 18 в. из конгломерата различных наук (физики,
минералогии и химии) выделилась особая научная дисциплина — кристаллография.
В дальнейшем интересы М. смещаются в область истории химии. В 1927 выходит в
свет первый том «Химических доктрин во Франции», охватывающий период с нач.
17 по кон. 18 в. (второй том так и не был написан). В 1920 она опубликовала
труд «Химия». В кн. «Философия материи Лавуазье» (1935) М. проанализировала
филос. основания химических теорий А. Лавуазье подобно тому, как она сделала
это ранее относительно трудов ряда др. ученых. М. всегда пыталась найти связь
между философией науки и историей науки. В 1926 вышел ее труд «Научные
концепты», специально посвященный философии науки. В 1987 изданы ее статьи,
написанные в 1914—1939 и посвященные проблеме филос. метода в истории наук.
Многим замыслам М. не суждено было осуществиться (ее жизнь трагически оборвалась
в газовой камере Освенцима). Предмет исследования М. — история идей,
она не касается истории жизни ученых, элиминируя тем самым из своей работы
биографические данные и психологию изучаемых авторов. Она считает, что
невозможно определить механизм связи эволюции доктрин, экспериментальных
открытий и технических изобретений химии с определенной эпохой, пока не будет
проанализирована и изложена история идей. Главное — показать формирование
самих основ теории, их модификацию под давлением внутренней логики или же
внешних влияний (социальных или научных). М. выдвинула одну из первых моделей не
кумулятивного развития науки, предвосхитив ряд принципиальных положений
концепции Т. Куна и оказав на него заметное влияние. Согласно М., необходимо
отделить период становления определенной науки от стадии ее существования как
уже сформировавшейся научной дисциплины. В фазе генезиса наука не является
автономной системой, развивающейся по своим внутренним законам. Ее эволюция в
значительной мере определяется и направляется господствующими филос.
течениями. Этому этапу обычно свойственны плюрализм мнений ученых,
множественность концепций и отсутствие общепринятой теории. Такая
эпистемологическая ситуация, называемая М. «интеллектуальной анархией», во
многом определяется отсутствием четкого осознания предмета познания и
специализации в среде исследователей. Зрелая фаза науки характеризуется ее
дисци плинарной структурой — наличием собственного предмета и методов
исследования, а также организованной группы ученых, работающих в рамках
общепризнанной теории. Переход от плюрализма к такой теории совершается
внезапно, без видимой связи с предшествующими работами. Новая концепция
быстро завоевывает популярность у многих ученых, которые вербуются нередко из
числа ее бывших противников, как бы обращенных в новую веру. С утверждением
общепринятой концепции ученые видят свою главную задачу в расширении области
ее применения. Их работа сводится к усовершенствованию принятой теории, не
затрагивающему ее основных принципов. Однако в ходе этого спокойного
эволюционного развития постепенно обнаруживаются трудности и аномалии,
которые приводят в итоге к кризису общепризнанной концепции и стремлению
найти ей замену. М. предлагала идеализированную
методологическую схему, облаченную в конкретный живой материал истории химии,
к тому же относящийся к периоду ее генезиса. Кун же развил абстрактную и в
достаточной мере эксплицированную — вплоть до концептуальной номенклатуры —
методологическую схему, претендующую на универсальный характер. Вместе с тем
сближение предложенной М. рациональной реконструкции истории химии во Франции
17 в. с моделью Куна представляет, помимо прочего, филос. интерес в плане
споров о том, что первично: логика или история науки. История науки, точнее
ее реконструкция, может дать пищу для дальнейших методологических абстракций,
поэтому два аспекта развития — логика и история — тесно взаимосвязаны и
стечением времени постоянно меняются местами. |
|
Мечников
Илья Ильич |
МЕЧНИКОВ
Илья Ильич (3 (15) 05: 1845, д. Ивановка Харьковской губ. — 2(15). 07. 1916,
Париж) — биолог и антрополог. Окончил Харьковский ун-т (1864), до 1867 г.
учился за границей, проф. Новороссийского (Одесского) (до 1882) и
Петербургского ун-тов. В 1908 г. награжден Нобелевской премией за
фагоцитарную теорию иммунитета. Работы М. "Этюды о природе
человека" (1903), "Этюды оптимизма" (1907), "Сорок лет
исканий рационального мировоззрения" (1913) посвящены размышлениям
"о человеческой природе и средствах изменить ее с целью достижения
наибольшего счастья". Долгая плодотворная жизнь и безбоязненная смерть —
вот к чему нужно, считал он, стремиться человеку, однако дисгармония
человеческой природы обрекает человечество на сознание собственного бессилия
перед лицом болезней, немощной старости и неизбежной смерти. В противовес
всецелому и полному смирению перед лицом смерти М. разработал концепцию
ортобиоза, в основе к-рой лежит этическая система здоровья и счастливой
жизни, видящая в смерти естественное завершение жизненного цикла.
Руководствуясь "рациональной нравственностью" и активной
саморегуляцией, человек способен устранить или смягчить несоответствия своей
природы, тем самым достичь бодрого душевного настроения. Средствами продления
жизни, по М., являются: исправление физических недостатков и др.
несовершенств; победа над болезнями, укорачивающими жизнь; противодействие
вредным привычкам; соблюдение правил гигиены; разумное социальное
переустройство. Продление жизни должно идти рука об руку с сохранением сил и
способности к труду, ибо, по ^мнению М., надо продлевать жизнь, а не
старость. М. ввел понятие инстинкта (чувства) жизни, к-рый лежит в основе
отношения человека к себе, жизни и здоровью. Постепенное раскрытие душевных
способностей человека, понимание им смысла жизни не совпадает с развитием
инстинкта жизни, т. е. существует противоречие между социальной и
биологической зрелостью, и в этом М. видел главную дисгармонию человеческой
жизни. В результате люди часто бывают пессимистами в молодости и оптимистами
в зрелые годы. Жить по законам ортобиоза — значит стремиться к гармонии между
желаемым, возможным и действительным, что приведет к формированию
оптимистического мировоззрения, способствующего продлению жизни, желанной и
полной смысла. Активное долголетие, по М., возможно только при условии
творческого и заинтересованного отношения к жизни. Объективный критерий
продолжительности жизни — время появления инстинкта естественной смерти.
Когда это время наступает, его можно продлить, если к естественному процессу
старения подойти с позиций научной обоснованности физических возможностей
организма, заложенных природой, и нравственного потенциала человека. М.
считал, что гармоничное функционирование всех органов само по себе не может
рассматриваться как идеал здоровья. Он был убежден, что человеческие чувства
симпатии и разумности развиваются наравне с естественными инстинктами и
этапами биологического становления. Так, напр., детство, любовь, материнство —
это не только физиологические, но и нравственные и социальные состояния.
Исходя из этого, М. предлагал всестороннее рассмотрение человеческой жизни на
основе единства антрополого-биологических, физических, психосоматических,
этических и социальных факторов. Т. обр., в своей этике М. отходил от сугубо
биологического понимания человеческой жизни как не отражающего всей ее сущности
и специфики, выявить к-рую можно только с помощью таких понятий, как счастье,
справедливость, знание, творчество. Именно они выражают наполненность и
гармонию жизни, способствуют утверждению чувства удовлетворенности ею и
появлению инстинкта естественной смерти. Отсюда принципы ортобиоза сводятся к
обоснованию своеобразной "этики души и тела" в их гармоничном
взаимодействии на базе здорового образа жизни. Счастье заключается в
нормальной эволюции инстинкта жизни, приводящей к спокойной старости и,
наконец, к чувству насыщенности жизнью. Об-во обязано создать условия для
реализации ортобиоза как образа жизни, обеспечить возможность человеку
развить свою индивидуальность, что будет способствовать сохранению здоровья и
гармоничному долголетию. Соч.:
Этюды о природе человека. М., 1956; Этюды оптимизма. М., 1988; Сорок лет
исканий рационального мировоззрения // Собр. соч. М., 1954. Т. 13. Лит.:
Хижняков В. В. и др. Творчество Мечникова и литература о нем. М., 1951; Острянин
Л. Ф. И. И. Мечников в борьбе за материалистическое мировоззрение. Киев,
1977; История философии в СССР. М., 1968. Т. 3. С. 462. |
|
Мечников
Лев Ильич |
МЕЧНИКОВ
Лев Ильич {18(30).05.1838, Петербург — 18(30).06.1888, Кларан, близ Женевы,
Швейцария) — географ, социолог, культуролог, лингвист, публицист. Брат И. И.
Мечникова. Учился в Харьковском ун-те (в 1856 г. был исключен с 1-го курса),
в Петербургской медико-хирургической академии и Петербургском ун-те. Полный
курс нигде не закончил, т. к. преследовался за участие в студенческих волнениях.
Овладел 14 иностранными языками (в т. ч. 4 вост.). Работал переводчиком в
рус. дипломатической миссии на Ближнем Востоке. В 1860—1863 гг. принимал
активное участие в революционной борьбе гарибальдийцев в Италии, был тяжело
ранен. В 1863 г. во Флоренции познакомился с Герценом, печатался в
"Колоколе". С 1865 г. в Швейцарии, участвовал в работе I Интернационала;
во время Парижской коммуны оказывал помощь коммунарам. В 1874—1876 гг.
работал в Токио проф. рус. отд. государственной школы иностранных языков. Итогом пребывания в Японии стала написанная
и проиллюстрированная самим М. большая кн. "Японская империя" (L'Empire
japonaise. Geneve, 1881) и серия
публикаций в журн. "Дело" (1876—1877) и газ. "Русские
ведомости" (1883—1884). С 1883 г. до конца жизни был проф. Невшательской
академии наук (Швейцария), где читал лекции по сравнительной географии и
статистике. Был знаком со мн. деятелями рус. и европейской культуры, в т. ч.
А. Дюма, Бакуниным, Кропоткиным, Плехановым, Э. Реклю. Последний опубликовал
на фр. яз. со своим предисловием первое (посмертное) издание его осн.
незавершенной работы — "Цивилизация и великие исторические реки.
Географическая теория развития современного общества" (Париж, 1889; рус.
пер. 1898, более полный — 1924). М. был противником европоцентристской схемы
истории и осуждал противопоставление "варварского Востока" и
"цивилизованного Запада". Вся история человечества, по М.,
разделяется на три фазы — речную, морскую и океаническую. При этом критерием
прогрессивного развития выступает солидарность или кооперация людей, к-рая
проходит три осн. стадии: насильственную, полунасильственную и добровольную.
Существование последней М. связывал с утверждением анархического идеала,
сторонником к-рого был. История, считал он, развивается по восходящей линии
от относительно замкнутых цивилизаций, возникших на берегах Нила, Инда и
Ганга, Хуанхэ и Янцзы, Тигра и Евфрата, — до средиземноморской и океанической
эпохи существования человечества, распространяющего свою деятельность на весь
земной шар. Характер вост. цивилизаций вытекал ^не из их "предрасположенности
к деспотизму", а из особого типа кооперации, определявшегося природными условиями,
необходимостью соединения огромных усилий по созданию речных обводнительных
систем. М. был убежден, что носителем нового типа океанической цивилизации
станет и Япония, положение к-рой в Азии представляет очень близкую аналогию с
положением островной Англии по отношению к континентальной Европе. В
результате анализа японских буржуазных реформ ("революция Мэйдзи",
1867—1868 гг.) М. пришел к выводу, что Япония будет быстро прогрессировать
гл. обр. благодаря сочетанию собственной культурной самобытности с совр. европейской
технологией и растущим участием в "международной кооперации".
Пореформенное развитие России, считал он, в чем-то схоже с японским, однако
имеет и свои принципиальные отличия. Россия являет собой самостоятельный тип
континентальной неокеанической ("незападной" и
"невосточной") цивилизации, для развития к-рой пространственно-географический
фактор имеет огромное значение. Для ее будущего крайне важна не столько
сырьевая, сколько индустриальная ориентация. Несмотря на близость к народничеству,
М. не был сторонником некапиталистического пути развития для России, хотя не
отрицал перспективности общины как устоявшейся формы кооперации. Высоко ценил
работу М. "Цивилизация и великие исторические реки" В. С, Соловьев,
назвавший ее "замечательной книгой". Он, однако, упрекал М. в
недооценке христианства (сак самостоятельного фактора развития цивилизации.
(Работы М. были использованы Соловьевым для написания статьи "Япония
(Историческая характеристика)". Собр. соч. Т. 6. С. 153—173.) Наследие
М. анализировал в ряде своих соч. Плеханов, считавший, что М. стоит ближе к
историческому материализму, чем к анархизму. В coup, литературе М. считается одним из предшественников евразийства.
Соч.:
Географическая теория развития исторических народов // Вестник Европы. 889.
Т.2. № 3. Лит.:
Соловьев В. С. Из философии истории // Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 2; Плеханов
Г. В.: Л. И. Мечников (Некролог); О книге Л. И. Мечникова // Соч. Т. 7. М.;
Л., 1925; Социологическая мысль в России. М., 1978. С. 87—97; Карташева К. С.
Дороги Льва Мечникова. М., 1981; Watanabe M. Metchmkoff and Japan// Japanese Slavic and East
European Studies. 1984. Vol. 5. P. 35—54. |
|
Мигель де
Унамуно |
Мигель де Унамуно (1864-1936)
испанский философ, поэт, эссеист. Родился в Бильбао в буржуазной семье,
изучал философию и литературу. При диктатуре Примо де Ривера был выслан
(1924) на Канарские острова. Вскоре он был избран ректором университета
наСаламанке, однако в конце жизни при диктатуре Франке был отстранен от должности.
Уже в ранних работах Унамуно
чувствуется сильное иррационалистическое влияние Кьеркегора, Ницше, Джемса,
Бергеона. Для него все жизненные ценности были иррациональными, а все
рациональное противоречило жизни. В 1905 г. он создает произведение «Жизнь
Дон-Кихота и Санчо», в котором Дон-Кихот воплощает поход веры против разума и
в котором Унамуно взял на себя роль не Сервантеса, а Дон-Кихота. Истина для
Унамуно представляет собой не объект мысли, а жизненную движущую силу. «Антилогизм» Унамуно достигает в
«Жизни Дон-Кихота и Санчо» своей кульминации. Мудрый, благоразумный Санчо, по
мнению Унамуно, никогда не поймет, что мы должны бороться против бездушной
машины цивилизации, как Дон-Кихот боролся против ветряных мельниц. У Унамуно
получает полное одобрение страсть Дон-Кихота к справедливости за пределами
законов. Дон-Кихот - это бог иррационалистического безумия, которое должно
быть спасительным для мира. Таким образом, рассматривая тему личности,
Унамуно разделяет внешнее, феноменальное, которое обладает рациональными
признаками и объединяет нацию, государство и т.д., и внутреннее, которое
характеризует подлинное человечество. Унамуно противопоставляет
рациональность феноменального бытия и иррациональность внутреннего мира
личности. В своем главном философском
труде «Трагическое чувство у людей и народов» (1913) Унамуно выступает как
моральный философ. Он утверждает, что не существует философий, а существуют
только философы: мысль зарождается в экзистенциальных установках. Человек
постоянно сопротивляется своей собственной природе как некое конечное
существо. Христианство дает этому трагическому сопротивлению свое лучшее
логическое обоснование в идее Бога, который делает нас бессмертными.
Постоянная борьба против отчаяния выступает как вера, олицетворяющая собой
трагическое чувство жизни. «Приятная, подкупающая неуверенность», мучение
становится для Унамуно, как и для Кьеркегора, истинным религиозным чувством и
основой для внутреннего прыжка от крайнего отрицания к крайнему утверждению.
Подобно вере, жизнь христианина обязательно беспокойна, она борьба, ибо как
христианин он должен бороться в себе самом с мужем, отцом и гражданином. Цель
этого страдания, как и страдания Христа, - Голгофа. Страдание Унамуно есть
лишь другое лицо этой борьбы. В отличие от других
антирационалистических «философов жизни», например Бергсона, Унамуно не
проявлял мистических наклонностей, его религиозные воззрения аскетичны.
Испанский католицизм представлялся ему самым аскетическим и страдающим, в то
время как римский католицизм потерял свою духовную силу в ошибочной попытке
соединить Евангелие с римским правом в каноническом праве. Унамуно называли испанским
Карлейлем, он был одним из величайших европейских индивидуалистов, который
писал, что «единственная жизненная проблема есть проблема нашей
индивидуальной, личной судьбы». Он был предтечей современных
экзистенциалистов, определив жизнь в истинно испанском духе: «Жизнь есть бой
быков». |
|
Мид
Джордж Герберт |
МИД (Mead) Джордж Герберт (род. 27 февр. 1863, Саут-Хадли,
США – ум. 26 апр. 1931, Чикаго) – амер. философ, социолог и социальный
психолог. Осн. произв.: «Mind, self and society», 1934; «The philosophy
of the act», 1950; «The social psychology...», 1956. Примыкал к прагматизму и натурализму,
развивал отдельные идеи У.Джеймса и Дж. Дьюи. Считал, что существование
общества возможно благодаря способности человека принимать на себя разные
роли; межиндивидуальные процессы опираются именно на эту способность
человека. Социальный индивид (социальное Я) может взять на себя роль другого,
других и «общественного другого». Это и есть этапы преображения физического
организма в социальное Я. Человек отличается от животного тем, что может
оказаться объектом для себя самого. В каждом индивидуальном Я заложена
сложная партитура реакций, способов действия, символических содержаний. Чтобы
раскрыть их потенциал, нужно обеспечить максимальный диапазон взаимодействия.
Став социальным субъектом, человек содействует развитию общества. Понятие
«перспектива» в философии М. выражает специфику взаимодействия человека с
социальной средой. Богатство и необычность реакций и способов деятельности,
которыми располагает личность, зависят от разнообразия тех систем
взаимодействия, в которых личность участвует. На последнем этапе внешний
социальный контроль превращается в форму внутреннего самоконтроля. Структура
завершенного Я характеризует единство и структуру социального процесса. Большую роль М. придавал системе
символов. Процесс социализации, по М., завершается формированием социального
рефлексивного Я. Последнее отражает совокупность межиндивидуальных
взаимодействий, способность личности становиться объектом для самой себя.
Концепция М. оказала значительное воздействие на развитие социальной
психологии и социологии. Она заложила, в частности, основы символического
интеракционизма (Г. Блумер, Т. Кун и др.). Идеи М. получили распространение в
области психологии, социальной этики. Одна из основных работ М. — «Сознание,
личность и общество» (1936). Кон И.С. Социология личности. М., 1967;
Ионин Л.Г. Критика социальной психологии Дж. Мила и ее современных
интерпретаций // Социологические исследования. 1975. № I. |
|
Мизес
Людвиг фон |
МИЗЕС (Mises) Людвиг фон (1881 — 1973) —
австро-амер. экономист, политический философ, автор работ по эпистемологии и
методологии экономической теории. Род. в Лемберге (Львов). Окончил Венский
ун-т, где первоначально специализировался по экономике в духе традиций нем.
исторической школы. Однако под влиянием идей основателя австр. экономической
школы К. Менгера, а также своего учителя Е. Бём-Баверка М. стал ее
радикальным последователем до конца жизни, одним из главных, наряду с Ф. фон
Хайеком, представителем неоавстр. направления. С 1909 М. работал в Венской
торговой палате, в 1927 вместе с Хайеком основал Австрийский ин-т исследований
экономического цикла. С 1920 по 1934 вел научный семинар, среди участников
которого были экономисты Хайек, Ф. Махлуп, Г. Хаберлер, математик К. Мен-гер
(сын экономиста), социолог-феноменолог А. Шюц и др. В 1934 М. эмигрировал в
Швейцарию, где был проф. Женевского ун-та, с 1940— в США, работал там в
экономических учреждениях и преподавал в Нью-Йоркском ун-те до 87-летнего
возраста. Один из основателей и активных участников либерального общества
«Монт Пелерин» (1944). Основные экономические работы М. относятся к теориям
денег и циклов, проблемам экономического расчета и социализма. По исходным установкам экономические,
философско-политические и методологические взгляды М. отличались единством и
бескомпромиссной последовательностью. Это радикальный политический
либерализм, «радикальный априоризм» и методологический индивидуализм. Под
впечатлением от революций 1917—1918 в России, Баварии и Венгрии и роста
социалистических настроений М. стал непримиримым защитником идей либерализма,
критиком социализма, а затем национал-социализма и противником вмешательства
гос-ва в экономическую жизнь (интервенционализма). В основе его критики
социализма как экономической системы лежит идея о том, что при отсутствии
рыночного механизма образования цен становится невозможным экономический
расчет (эту идею независимо от М. обосновал также рус. экономист Б.Д. Бруцкус
в работе «Социалистическое хозяйство» 1921 — 1922). Поэтому неизбежными
следствиями внедрения планового хозяйства становятся «запланированный хаос»,
дезорганизация производства и распределения («Социализм» (1922, рус. пер.
1994), «Либерализм» (1927), «Запланированный хаос» (1949, рус. пер. 1993). Наряду с критикой
социально-политического «коллективизма» М. критиковал «методологический
коллективизм», гипостазирующий холистские понятия «общество», «гос-во»,
«нация» и т.п. в социальном и экономическом анализе. Он выступал в защиту
методологического индивидуализма, предполагающего, что индивид, как далее не
разложимый атом, является основой и точкой отсчета для исследования
человеческих действий. Коллективность при этом трактовалась М. как функция
опосредования одного или нескольких индивидов, действия которых относятся к
коллективу как вторичному источнику. Такая установка была вызвана у М.
своеобразным пониманием природы экономической теории. В кн. «Человеческая
деятельность» (1949, рус. пер. 2000), которую он считал своей главной
работой, экономика трактуется у него как «ветвь праксеологии» — априорной
науки о человеческих действиях. Первичные постулаты экономической теории, по
М., не имеют эмпирического происхождения, но выявляются в логическом
самоанализе и затем служат базисом для дедуктивных построений. Этот
«радикальный априоризм» и антиэмпиризм М. вызывал наибольшую критику со
стороны др. экономистов. О некоторых распространенных
заблуждениях по поводу предмета и метода экономической науки // THESIS. 1994.
№ 4; Индивид, рынок и правовое государство. Антология. СПб., 1999; Теория и
история. М., 2001; The Ultimate Foundation of Economic Science. Kansas City,
1977. |
|
Микешина
Людмила Александровна |
МИКЕШИНА Людмила Александровна (р. 1930)
— специалист в области философии науки и теории познания. Окончила филос.
факультет ЛГУ (1953). Научно-педагогической деятельностью занимается с 1964,
доктор филос. наук (1979), проф. (1981). Работала доцентом кафедры философии
Ленинградского горного ин-та им. Г.В. Плеханова. С 1978 преподает, а с 1986
также заведует кафедрой философии Московского педагогического
государственного ун-та. Автор четырех монографий, пяти учебных пособий, более
десяти программ по филос. дисциплинам, организатор и ответственный редактор
«Хрестоматии по истории философии» (М., 1994, 1997). Председатель
Научно-методического совета по философии Министерства образования (с 1993). В трудах М. исследуются общие закономерности
социокультурной детерминации познания, единство и взаимодействие логических,
когнитивных и ценностных моментов. Ценностные и мировоззренческие предпосылки
научного познания, а также метод, стиль научного мышления, научная картина
мира рассматриваются в единстве методологических функций и форм
социокультурной обусловленности познания. Неявное знание, имплицитные
компоненты, принятые на веру эмпирические высказывания исследуются как
феномены, необходимые не только для понимания и интерпретации научных
текстов, но и для целостного видения знания в единстве дорефлексивных и
рефлексивных форм. Обосновываются идеи обновления традиционной теории
познания и эпистемологии с учетом опыта герменевтики; исследуется специфика
филос. интерпретации; герменевтические смыслы образования рассматриваются в
связи с интерпретирующей функцией субъекта. Структура и функции научного метода. М.,
1977; Детерминация естественно-научного познания. Л., 1977; Ценностные
предпосылки в структуре научного знания. М., 1990; Методология в контексте
культуры. М., 1992; Герменевтические смыслы образования // Философия
образования. М., 1996; Новые образы познания и реальности. М., 1997 (в
соавт.); Теория познания и герменевтика // Вестник РГНФ. М., 1998. № 4;
Фундаментальный поворот в понимании структуры научного знания // Философия,
наука, цивилизация. М., 1999; Специфика философской интерпретации // Вопросы
философии. 1999. № 11. |
|
Миле
Гастон |
МИЛЕ (Milhaud) Гастон (род. 1858, Нимс – ум. 1918, Париж) –
франц. философ. Примыкал к Ренувье, к его теории достоверности, находился
также под влиянием Канта и подчеркивал суверенность духа в научном процессе
созидания. Осн. произв.: «Essai sur les conditions et les limites de la certitude logique»,
1894; «Le rational», 1898; «Etudes sur la pensee scientifique», 1906. |
|
Милль
Джеймс |
МИЛЛЬ (Mill) Джеймс (род. 6 апр. 1773, Нортуотер Бридж – ум. 23
июня1836, Кенсингтон) – англ, историк и психолог. Разрабатывал законы
ассоциации и в центр своей психологической теории в качестве
основополагающего понятия поставил чувство. Осн. произв.: «History of
British India», 6 vol., 1818-1819; «Analysis of the phenomena of the human
mind», 1829. |
|
Милль
Джон Стюарт |
Философские взгляды Милля
формировались под воздействием Карлейля, Бентама, Конта. Он считается самым
крупным английским философом XIX в., который пропагандировал и развивал
доктрину утилитаризма. Особенно известен своей системой
индуктивной и дедуктивной логики («System of Logik,
ratiocinative and induktive», 1843 – рус. пер. «Система логики силлогической и
индуктивной», 1914); продолжал традиции классического эмпиризма англ,
философии, развив его в позитивизм (в противоположность
религиозно-недогматическому позитивизму Конта). Милль наряду с Контом и
Ардиго – наиболее значительный позитивист 19 в. Согласно учению Милля, основу
всей философии составляет психология, которая устанавливает, что реально даны
только соответствующие ощущения и представление о переходах или будущих
возможных ощущениях. Понятия – это просто (языковые) названия
(терминологические). Милль отвергает силлогизм Аристотеля. Внешний мир в этом
смысле – постоянная возможность сходных ощущений. Единственным источником
познания является опыт, единственно допустимым приемом познания – индукция; она же лежит в основе
умозаключений логики и аксиом математики; она должна устанавливать не причины,
а только законы явлений. Милль различает науки о природе (историческую науку
он также стремится отнести к «наукам о природе») и науки о духе (moral sciences) – психология, «этология», наука об обществе – и
дает первую обстоятельную теорию экспериментальной науки о природе и
описательного метода. Задачей этики, по Миллю, является моральное
преобразование общества в смысле удовлетворительного компромисса между
индивидом и обществом. Моральные ценности не являются врожденными,
интуитивными (или априорными), неизменными, напротив, они эмпиричны и
изменчивы. Для Милля («Utilitarianism», 1864)
высшей целью нравственного поведения является, как и по Бентаму, содействие
возможно большему счастью всех (см. Эвдемонизм,
Утилитаризм). Исходя из этических принципов, Милль религиозно
воспринимает высшую, божественную сущность, но космические события, по Миллю,
затрудняют веру во всемогущество этого Бога. Милль высказал определенную
точку зрения также и в отношении многих др. проблем: парламентаризма (в 1866
– 1868 он был депутатом палаты общин), экономической и колониальной политики
(сначала он был служащим Ост-Индской компании), по ирл. вопросу, по женскому
вопросу. Его произв.: «Examination of Sir W. Hamilton's philosophy»,
1865. (рус. пер. «Обзор философии сэра Вильяма Гамильтона», 1869; резкие нападки на рационализм); «Огюст Конт и позитивизм», 1865 (1897); «Principles of political economy», 2
vol., 1848 (рус. пер. «Основания политической экономии», 1909); «Essay on liberty», 1859 (рус. пер. «О свободе», 1906);
«Considerations and discussions, political, philosophical and historical», 4
vol., 1859; «Letters», 2 vol., 1910; «Autobiography», 1873 (рус. пер. «Автобиография»,
1896). В работе «Утилитаризм» Милль
рассматривает принцип полезности в моральной теории, который дает руководство
к тому, как жить добродетельно. Принцип пользы утверждает, говорит он, что
действия являются правильными в той пропорции, в какой способствуют счастью,
и неправильными в пропорции, в которой отвращают от счастья. Счастье желательно,
и доказательство этого состоит в том, что люди действительно желают его:
каждое доброе дело человека - счастье для этого человека и общее счастье. Милль стремился преодолеть
возражения, которые были сделаны бентамовскому варианту этического утилитаризма.
Бентам утверждал, что каждый ищет свое собственное удовольствие и что
удовольствие есть величайшее добро, и на основании этого обвинял людей в том,
что они действуют эгоистически. Милль утверждает, что хотя мы действительно
стремимся получить удовольствие, но это не означает, что мы действуем
эгоистически, так как многие люди совершают поступки, которые явно не могут
быть определены как эгоистические. Он также пересмотрел взгляд
Бентама на удовольствие, уравнивавший все удовольствия, и полагал, что
существуют удовольствия более высокие и более низкие. В последней главе
«Утилитаризма» он рассмотрел критику идеи, согласно которой счастье - самая
высокая моральная ценность. Возражение состояло в том, что счастье не может
быть самой высокой ценностью потому, что существует много ситуаций, в которых
мы ставим справедливость выше счастья. На это Милль представил целый набор
аргументов, в которых показал, что хотя справедливость действительно
находится на высоком уровне в иерархии человеческих ценностей, счастье и
стремление к нему остаются принципом, который господствует в человеческом
поведении. В сочинении «Система логики
силлогистической и индуктивной» (1843) Милль рассматривает индуктивную логику
как общую методологию наук. В первой книге «Системы...» он исследует то, что
называет «природой утверждения». Он проводит различие между общими и
единичными именами, конкретными и абстрактными, а также коннотативными и
неконнотативными терминами. Его главное утверждение состоит в том, что
термины обозначают только частное и что общий термин, такой, как
«человечество», не обозначает сущности, отличной от индивидов, которые вместе
составляют род человеческий. Во второй книге рассматриваются силлогистические
суждения. Главный интерес Милля -
рассмотреть индукцию, которая заключается в том, что мы переходим от знания
известного к знанию неизвестного, а не от прошлого к будущим событиям. В своих философских взглядах
Милль стоял на позициях феноменалистического позитивизма. Он полагал, что все
наше знание происходит из опыта, предмет которого - наши ощущения. Испытав
воздействие Конта и разделяя некоторые его взгляды, Милль тем не менее не
принимал его социально-политических воззрений, считая, что тот защищает
систему духовного и политического деспотизма и игнорирует свободу личности. В
связи с этим он написал очерк «О свободе», главной темой которого являлось
утверждение, что мы можем вмешиваться в действия других людей только в том
случае, если они наносят кому-либо вред. В этом очерке Милль выступал за
открытые дискуссии и демократический индивидуализм. |
|
Милюков
Павел Николаевич |
МИЛЮКОВ Павел Николаевич (15
(27). 01. 1859, Москва — 31. 03. 1943, Экс-ле-Бен, Франция) — историк,
публицист, общественный деятель, один из лидеров росс, партии кадетов. Как и
большинство рус. историков, примыкал к школе, которая занималась изучением
внутренней, бытовой или культурной истории, однако, как социолог, он был
далек от одностороннего, узко материалистического или узко идеалистического
взгляда на понимание исторического процесса. По его мнению, попытки свести
всю сложность и разнообразие исторической эволюции к какой-либо одной ее
стороне не могут иметь успеха, ибо простое и сложное различаются в ступенях
развития всемирной истории. Цель исторической науки – уяснение закономерности
исторического процесса во всей его полноте. В этом процессе главную роль
играют три осн. элемента: внутренняя тенденция процесса, являющаяся в чистом
виде лишь возможностью; среда, в которой развивается общественная жизнь;
личность, характеризующая своими индивидуальными особенностями исторические
события. Для того чтобы внутренняя тенденция процесса могла перейти из
возможности в действительность, необходима реализация ее в конкретных
условиях исторической жизни, а эти условия могут видоизменять до
бесконечности ее осн. направление. Законы действия среды на общественную
жизнь остаются всегда одинаковыми, но связь данной обстановки с данной
общественной группой в социологическом смысле является случайной, т.е. не
вытекающей из внутренних законов общественной эволюции. Осн. тенденция
социального процесса и среда, в которой она осуществляется, определяют
эволюцию социального порядка, учреждений и нравов. Индивидуальные же
особенности личности объясняют тот остаток, который сохраняется за вычетом
всего, что в историческом подтексте поддается объяснению при помощи этих двух
элементов. Сила и значение личности возрастают, когда она действует в одном
направлении с развитием исторического процесса, а при той бессознательности,
с которой эволюционировали общественные отношения, только личности, официальные
и моральные руководители толпы, совершали общественно целесообразные
поступки. Наука и жизнь для Милюкова тесно связаны друг с другом, и поскольку
выводы первой он считает ценными, то они применимы ко второй. По окончании Московского ун-та в
1882 г. был оставлен на кафедре Ключевского для подготовки к проф. званию. В
1892 г. защитил в Московском ун-те магистерскую диссертацию. В этой работе М.
была сформулирована и обоснована ключевая для его дальнейшей мировоззренческой
и научной позиции идея об европеизации России как объективном и внутренне
обусловленном процессе. В 90-е гг. начинается его просветительская и
политическая деятельность. Он выступает с лекциями по различным историческим
и общественно-политическим вопросам. Идеи, высказывающиеся в его лекциях,
приводят к новому конфликту с властями, за к-рым следует его высылка на 3 г.
в Рязань. Здесь он начинает писать "Очерки по истории русской
культуры", к-рые позднее вырастают в фундаментальный труд, состоящий из
3 ч. и 4 кн. 1-е изд. "Очерков" вышло в 1896—1903 гг. В них М.
развивает оригинальную концепцию российской истории, исходя из главного
тезиса своей магистерской диссертации о том, что Россия, так же как и Европа,
находится в едином потоке социальной эволюции. Хотя Россия из-за ряда
исторических обстоятельств отстает в своем развитии, это не означает, что она
должна пройти все те стадии, к-рые уже прошла Европа, и тем более копировать
зап. опыт. Для обоснования этих выводов М. использует термин
"национальный организм", считая его исходным и базовым для научного
изучения исторического процесса. По его мнению, именно национальные
организмы, взаимодействуя друг с другом, создают основу социальной эволюции
как отдельных государств, так и всего человечества. В развитии национальных
организмов снимается противоположность материального и духовного, проявляется
своеобразие и основополагающая роль национальной культуры, культурной
традиции того или иного народа. Именно с созданием "новой русской
культурной традиции, соответствующей общественным идеалам", М. и связывает
будущий социальный прогресс в России. Разрабатывая свою концепцию, М.
привлекает большое количество оригинальных материалов по рус. истории. Его
"Очерки" называли фундаментальной экспертизой исторического опыта
России по самым различным параметрам: территория и население, церковь и
образование, идеология и национальные отношения и т. д. Мн. современники
после выхода "Очерков" причислили М. к ведущим отечественным
историкам. В 1897 г. М. принимает предложение о чтении лекций по всеобщей
истории в Софийском Высшем училище; после возвращения в Петербург в дек. 1900
г. за участие в нелегальном собрании, посвященном памяти Лаврова, его
арестовывают. В тюрьме он продолжал работу над "Очерками". После
освобождения из тюремного заключения М. в 1903 г. выезжает за границу. В США
он читает цикл лекций под общим названием "Россия и ее кризис".
Зиму 1903/04 г. он проводит в Англии, где продолжает читать лекции, собирает
материалы по рус. истории в библиотеке Британского музея. За границей М.
становится одним из организаторов и идеологов либерально-конституционного движения,
пишет первоначальный вариант его платформы "От русских
конституционалистов" (опубликован в журн. "Освобождение", №
1). В 1905 г. это движение оформляется в партию конституционных демократов
(кадетов), лидером к-рой становится М. В своей программе кадеты призывали к ненасильственному
и правовому (через всеобщие выборы) установлению в России конституционного
строя, для к-рого первоначально допускалась как монархическая, так и
республиканская форма, к отмене сословных привилегий и установлению всех осн.
демократических свобод, равенства личности перед законом. В 1906—1917 гг. М.
принимает активное участие в политической жизни России. В первом составе
Временного правительства он занимал пост министра иностранных дел. М. не
принял Октябрьскую революцию и Советскую власть, одним из первых
правительственных декретов запретившую кадетскую партию, в 1920 г.
эмигрировал за границу. В первые годы эмиграции, оставаясь лидером кадетской
партии, М. разрабатывает "новую тактику" борьбы с большевистской
властью в России, в соответствии с к-рой предлагалось исходить не просто из
необходимости насильственного ее свержения, но и внимательно изучать новые
политические и экономические реалии совр. России. Эта позиция вызвала резкое
противодействие со стороны определенных кругов российской эмиграции. В 20-х
гг. М. возобновляет систематические научные занятия. Он выпускает кн.
"История второй русской революции" (1921—1924), "Эмиграция на
перепутье" (1926), "Россия на переломе" (1927. Т. 1—2) и др.,
в к-рых подробно анализирует общественное развитие России после Октябрьской
революции, глубоко осмысливает причины и следствия переломных событий. Он
работает также над новым изд.· "Очерков по истории русской
культуры", к-рое выходит в свет в 1937 г. В последние годы своей жизни
М. писал "Воспоминания", закончить к-рые он не успел. Соч.: Государственное хозяйство
России в первой четверти XVIII столетия и
реформа Петра Великого. Спб., 1892; Разложение славянофильства. Данилевский,
Леонтьев, Вл. Соловьев. М., 1893; Очерки по истории русской культуры. Спб.,
1896—1903. Ч. 1—3 (М., 1993—1995); Из истории русской интеллигенции: Сб.
статей и этюдов. Спб., 1902; Интеллигенция и историческая традиция
//Интеллигенция в России. Спб., 1910 (см. также: Вопросы философии. 1991. №
1); Главные течения русской исторической мысли. 3-е изд. Спб., 1913; История
второй русской революции. София, 1921—1924. Т. 1, вып. 1—3; Национальный
вопрос. Берлин, 1925; Эмиграция на перепутье. Париж, 1926; Россия на переломе.
Большевистский период русской революции. Париж, 1927. Т. 1—2; Республика или
монархия. Париж, 1929; Воспоминания (1859—1917). М., 1990. Т. 1—2. Лит.: Вернадский Г. В. П. Н.
Милюков. Пг., 1917; Кизеветтер А. А. П. Н. Милюков. М., 1917; Сб. статей, посвященных
П.Н.Милюкову (1859—1929). Прага, 1929;
П. Н. Милюков: Сб. материалов по чествованию его семидесятилетия. Париж,
1930; Кантор В. К. Историк русской культуры — практический политик (П. Н.
Милюков против "Вех") //Вопросы философии. 1991. № 1; Думова Н. Либерал
в России: трагедия несовместимости (исторический портрет П. Н. Милюкова). М.,
1993; Вандалковская М. Г. П. Н. Милюков, А. А. Кизеветтер: историк и политик.
М., 1992. |
|
Минский
Николай Максимович |
МИНСКИЙ Николай Максимович
(наст, фам. Виленкин) (15 (27). 01. 1855, Глубокое Виленской губ. — 2. 07.
1937, Париж) — поэт, философ, публицист, переводчик, один из зачинателей рус.
символизма. Окончил юридический ф-т Петербургского ун-та (1879). После ун-та
служил домашним учителем, присяжным поверенным, архивариусом в банке, но
служба мало интересовала М., с юношеских лет посвятившего себя литературе. В
начале творчества выступил как певец "народной скорби",
продолжатель некрасовских традиций, был непосредственно связан с народничеством.
Его первый сборник стихотворений был изъят цензурой и уничтожен (1883). После
цензурных гонений в мировоззрении М. произошел перелом. В 1884 г. он
публикует статью "Старинный спор", к-рая считается первым в России
литературным манифестом декадентства и в к-рой М. подверг критике теорию
"утилитарного" искусства, поставившую рус. музу на службу
публицистике. Главным критерием художественности он признал искренность
художника, творческая личность к-рого обожествлялась. Мысль о художнике —
творце новой реальности — становится ведущей в эстетике символистов. В кн.
"При свете совести. Мысли и мечты о цели жизни" (1890) в противовес
отечественной традиции народолюбия, самопожертвования, к-рая, по М., ведет к
растворению личности в массе, отречению от индивидуальности и творчества, М.
"поднял мятежное знамя индивидуализма, самообожествления, эстетизма"
(Новая русская книга. Берлин. 1922. № 8. С. 40). Здесь М. выдвинул теорию
"несуществующих святынь" — меонов (от греч. те δη — небытие, несуществующее).
Меоны находятся вне мира явлений, их нельзя ни понять, ни даже помыслить в
реальной жизни, но душа, ненавидя действительность, жаждет прорваться к ним.
Стремление познать непознаваемое, невозможное, несуществующее, растворенное
во Вселенной ("абсолютное небытие", Бога), трактуется автором как
высшая цель человека, единственный путь осознания им полноты бытия. В меонизме
М. нетрудно увидеть соединение различных идеалистических учений (от вост.
мистики и Платона до непознаваемой кантовой "вещи в себе" и совр.
М. богоискательских теорий). Идеи меонизма М. пытался воплотить в произв.
различных жанров: в лирике ("Два пути", 1900), в драматургии
("Альма", 1900), в критике и публицистике ("О двух путях
добра", 1903 и др. статьи). В качестве трибуны для пропаганды своей
теории М. активно использовал Религиозно-философские собрания (1901—1903),
одним из организаторов к-рых являлся. Цель собраний он видел в том, чтобы
повернуть рус. интеллигенцию лицом к религиозным вопросам. Уверенность, что
"можно создать религиозное мировоззрение не вопреки разуму и не тайком
от него, а при его участии", легла в основу кн. М. "Религия
будущего (Философские разговоры)" (Спб., 1905). Убежденный в неразрывной
связи философии и религии ("связь эта теснейшая, как между стеблем и
цветком"), М. призывал предпринять "последний крестовый поход
мысли, для того' чтобы овладеть святыней" (Там же. С. 1—2). Ведущий
тезис книги: отношение к Богу, новую религию "нужно строить не на вере,
а на другом, более глубоком основании — на уверенности" (Там же. С. 4).
Правда, автор не уточнял, в чем конкретное различие противопоставляемых
понятий. Философские соч. М. лишь условно можно назвать
"трактатами": границы научно-теоретического изложения и
художественного творчества здесь размыты. Сам он признавал, что "всегда
мечтал об идеальной метафизике, которая, начинаясь теорией познания,
завершалась бы легендой и молитвой" (Там же. С. 2). "Меоническая
легенда" и "молитва" о едином божестве, добровольно умирающем
из любви к множественному миру, явно превалировала над "теорией".
Темы, образы, стилистические приемы указанных книг М. имели непосредственные связи
с его стихотворными произв. Идейные искания М., оригинальная форма его
произв. (синтез религиозно-философского трактата и поэтической фантазии)
нашли отклик у молодого поколения символистов. А. Белый в ст. "Отцы и
дети русского символизма" (1905) назвал М. среди своих учителей.
Революция 1905 г. вновь обратила М. к общественной деятельности и
"гражданской" поэзии. Основанная им газ. "Новая жизнь" по
существу явилась первой легальной большевистской газетой. Здесь М.
опубликовал "Гимн рабочих" ("Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!"). Свой недолгий союз с социал-демократами он пытался
впоследствии оправдать стремлением придать революционному движению
религиозный характер. После закрытия газеты (декабрь 1905 г.) М. был
арестован, а потом эмигрировал. В кн. "На общественные темы" (Спб.,
1909) он резко критиковал "догматы политиканствующего марксизма",
не менее враждебные "идеальным стремлениям интеллигенции, чем тирания бюрократин
и насилия реакции" (На общественные темы. С. 198). Полемизируя с М.
Горьким об интеллигенции и мещанстве, М. отстаивал идеи надклассового социал-гуманизма,
обратился к проблеме личности в рус. истории. Деспотизм в России и подавление
личности государством М. объяснял геополитическими причинами: отсутствие
естественных границ и тысячелетний кошмар войн за их обретение породили
тиранию и не позволяли личности чувствовать себя в безопасности, начать расти
и развиваться как живой творческой клетке культуры. Но "под историческим
гнетом, — утверждал он, — в русском сознании образовалось новое чувство,
новый свет, новый идеал" — социально-гуманитарной любви (Там же. С. 34).
Как противоречащую рус. психологии, М. призывал "выкинуть за борт"
теорию исторического материализма (Там же. С. 62). В 1913 г. М. на короткое
время вернулся в Россию, а затем (уже навсегда) уехал за границу. В первые
послереволюционные годы он пишет статьи об опасности, грозящей творческому
духу, хранителям интеллекта, о союзе между работниками умственного и
физического труда в борьбе против всякого партийного властолюбия. В
"Манифесте интеллигентных работников" (1923) он критикует К. Маркса
за игнорирование специфики умственного труда и принижение роли интеллигенции,
дает свою квалификацию общественных групп, согласно к-рой об-во всегда
распадается на класс творцов материальных и духовных ценностей и класс
"властодержавцев". В совр. мире, по М., капиталисты и политиканы
находятся по одну сторону баррикады, а "умственные работники вместе с
пролетариями должны бороться против всех господствующих классов и
партий" (Современные проблемы. Париж, 1923. С. 136). В этот же период М.
написал философскую мистерию "Кого ищешь?" (1922), в к-рой
отстаивал идеи меонизма. В эмиграции после революции М. жил сначала в
Берлине, где возглавлял "Дом искусства", затем в Лондоне — работал
в советском полпредстве, в последнее десятилетие вел уединенную жизнь в
Париже. Соч.: При свете совести. Мысли и
мечты о цели жизни. Спб., 1890; О свободе религиозной совести. Спб., 1902;
Религия будущего (Философские разговоры). Спб., 1905; Полное собрание
стихотворений: В 4 т. 4-е изд. Спб., 1907; На общественные темы. Спб., 1909;
"Меонизм" H. M. Минского в
сжатом изложении автора // Русская литература XX века, 1890—1910. М., 1915. Т. 2.
С. 364—368; Кого ищешь? Мистерия. Берлин, 1922; Ответ на вопрос: "Как вы
пережили войну и революцию?"// Новая русская книга. Берлин, 1922. № 8.
С. 39—42; От Данте к Блоку. Берлин, 1922; Манифест интеллигентных работников
// Современные проблемы. Париж (1922). С. 135—187. Лит.: Плеханов Г. В. О так
называемых религиозных исканиях в России // Избр. филос. произв.: В 5 т. М.,
1957. Т. 3. С. 326—437; Блок Α. Α. Η.
Μ. Минский. Религия будущего (Философские разговоры) //
Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 5. С. 593—598; Айхенвалъд Ю. И. Минский
// Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. М., 1994; Венгеров С. А. Н.
Минский // Русская литература XX века,
1890—1910. М., 1915. Т. 2. С. 357—363; Радлов Э. Л. Философия Η. Μ. Минского // Там же. С.404—409; Мейлах Б. С. Символисты в 1905
году // Литературное наследство. М., 1937. Т. 27—28. С. 167—195; Долгополое
Л. К. Η. Μ. Минский.
Биографическая справка // Поэты 1889—1890 годов. Л., 1972. С. 84—88. |
|
Миронов
Владимир Васильевич |
МИРОНОВ Владимир Васильевич (р. 1953) —
специалист по систематической философии и философии науки, доктор филос.
наук, проф. Окончил филос. факультет МГУ (1979). С 1998 — зав. кафедрой
систематической философии, декан филос. факультета МГУ. Сфера научных интересов М. —
исследование особенностей философии как формы сознания, сочетающей в рамках
общего рационалистического подхода два вектора отношения к миру:
рационально-теоретический и ценностно-мировоззренческий. Философия не может
быть безразличной ни к к.-л. способу или виду познания, ни к к.-л. системе
ценностей. Это — открытая система, представляющая собой рефлексию о наиболее
общих, предельных вопросах бытия и одновременно являющаяся
конкретно-практическим размышлением над использованием результатов данной
рефлексии в жизни людей. Указанные векторы задают границы филос.
коммуникационного пространства, а постановка и решение отдельных проблем
может тяготеть к тому или иному вектору. Философия самореализуется как диалог
мыслителей и культур, внутри которого сталкиваются разнообразнейшие т.зр. и
синтезируются в едином общечеловеческом мыслительном процессе противоположные
концепции. В этом коммуникационном пространстве не существует ни
«вертикальных» исторических границ, ни «горизонтальных» культурно-цивилизационных. В работах М. отстаивается тезис о том,
что философия является искусством интерпретации, выполняя герменевтическую
функцию. Поскольку в философии интерпретация осуществляется на вторичном, еще
более удаленном от реальности «n-уровне», философия оказывается
«интерпретацией интерпретаций», творческой деятельностью, приумножающей
смыслы. При этом философия является наиболее свободной интерпретацией, т.к.
философ раскрывает зафиксированные смыслы в контексте новой социокультурной и
пространственно-временной заданности. Это один из источников приращения
филос. знания. М. исследует также проблемы
взаимоотношения философии и науки, процесс изменения образа науки в
человеческой культуре. Сциентистский и антисциентистский образы науки
выступают своеобразными признаками современной культуры, некоторыми
симптомами ее «кризиса», проявляющегося на самых различных уровнях. В связи с
этим анализируется проблема воздействия науки на изменение современного
культурного коммуникационного пространства, оказывающего как положительное,
так и негативное влияние на развитие человеческой культуры и отражающего ее
переход к интеграционной динамической модели. Антисциентистские интерпретации
специфики философии // Вестник МГУ. Сер. «Философия». 1983. № 4; О понимании
философии как мудрости // Философские науки. 1986. № 6; Компьютеризация:
проблемы и перспективы (социальный аспект) // Философские науки. 1987. № 7;
Философия, ее предмет и роль в обществе. М., 1987; Наука и «кризис культуры»
(или затянувшийся карнавал). Ст. 1—2 // Вестник МГУ. Сер. «Философия». 1996.
№ 4; Философия: Учебник для студентов вузов. М., 1996 (в соавт.). Ч. 1—2;
Образы философии и науки в современной культуре. М., 1996; Философия: Учебник
для студентов вузов. М., 1998; Специфика гуманитарного познания и философия
как интерпретация (деконструктивизм или конструктивизм) // Вестник МГУ. Сер.
«Философия». 1998. № 6; Философия. Учение о бытии, познании и ценностях
человеческого существования: Учебник. М., 1999 (в соавт.); Auf dem
Gipfel der Geschichte. Wie es der Philosophie unter dem Rotem Stern erging //
Wissenschaft of Hochschule. 1/2. 1993. |
|
Митрохин
Лев Николаевич |
МИТРОХИН Лев Николаевич (р. 1930) —
специалист по истории философии, философии религии и религиоведению; доктор
филос. наук (1967), проф. (1991), чл.-корр. РАН (1994), академик РАН (2000).
Окончил филос. факультет МГУ (1953), аспирантуру того же факультета (1956). С
1958 работал в Ин-те философии АН СССР. В 1974—1978 — на дипломатической
службе в США; 1979—1987 — в Ин-те международного рабочего движения АН СССР; с
1987 — вновь в Ин-те философии АН СССР. В настоящее время зав. отделом Ин-та
философии РАН, главный редактор жур. Президиума РАН «Social Sciences», член
редколлегии жур. «Вопросы философии». Автор около десяти монографий, а также
многих брошюр и научных статей. В работах М. исследуются роль религии в
становлении европейской культуры, история и современное состояние
протестантизма, фундаментальные проблемы философии религии и теологии. Многие
публикации М. посвящены истории и современному состоянию реформационных
движений на Западе и в России (ереси, сектантство), преимущественно баптизма.
В их числе «Баптизм и современность» (М., 1964); «Баптизм» (1966, 1974);
«Кризисные явления в современном баптизме» (М., 1967); «Баптизм и научное
знание» (М., 1969). В русле этой проблематики находятся и статьи М. о М.Л.
Кинге, Райнхольде Нибуре, Б. Грэме, Харви Коксе, о концепции «смерти Бога» и
религиозном пацифизме. В завершающем капитальном труде «Баптизм: история и
современность» (1997) впервые в научной литературе представлено формирование
и современное состояние баптизма — как зап., так и российского. Специальное внимание М. уделяет
проблемам христианской антропологии, взаимоотношениям религии и науки,
религии и морали, обратившись к ним уже в кн. «Христианская "Наука
жизни"» (М., 1957) и в ряде последующих работ. В серии статей,
обобщенных в монографии «Философия религии. Опыт истолкования Марксова
наследия» (1993), М. детально проанализировал атеистическое наследие К.
Маркса и Ф. Энгельса. Выявляя односторонний социологизированный подход
марксизма к религии и невнимание к экзистенциальной проблематике, М. вместе с
тем объективно показывает заслуги Маркса в разработке концепции «отчуждения»,
учения об идеологии и сознании («товарный фетишизм», «форма превращенная»),
высоко оценивает работы Энгельса по раннему христианству и истории
протестантизма в Германии. Ряд работ М. посвящен анализу идеологии и культуры
США: «Антикоммунизм в США» (М., 1968), «Негритянское движение в США:
идеология и практика» (М., 1974), «Религии "Нового века"» (М.,
1985). В последней книге дана обстоятельная характеристика «культов», или
«нетрадиционных религий», распространившихся в Новом свете в 1970-е гг., а
сегодня — и в России. М. принимал участие в организации и
редактировании многих коллективных трудов, в таких как «Современный
экзистенциализм» (М., 1966); «Проблема человека в современной философии» (М.,
1969); «Философия и наука» (М., 1972), словари «Протестантизм» (1990) и
«Христианство» (1994). В последние годы М. опубликовал целый ряд работ,
посвященных современному положению религии и церкви в России: «Религия и
политика в посткоммунистической России» (1994), «Религия и культура.
Философские очерки» (2000). Работы М. отличают особое внимание к
«вертикальному» измерению культуры, к социально-онтологическим корням
религиозного сознания, стремление объяснить специфику религии как исторически
закономерного типа всенаучного экзистенциального знания, как способа решения
фундаментальных проблем предназначения и бытия человека. |
|
Михайловский
Николай Константинович |
МИХАЙЛОВСКИЙ
(псевдонимы
— Гроньяр, Посторонний, Профан и др.) Николай
Константинович (род. 15 нояб. 1842, Мещовск – ум. 28 янв. 1904, Петербург) –
рус. социолог, публицист, теоретик «народничества», один из создателей субъективного
метода в социологии. Учился в Петербургском ин-те горных инженеров; с 1868 — ведущий
сотрудник, а затем соредактор жур. «Отечественные записки», фактически
являвшегося рупором легального народничества; с нач. 1890-х гг. до конца
жизни — соредактор жур. «Русское богатство», идейного выразителя
оформившегося в легальном народничестве либерального направления; в кон.
1870-х гг. М. поддерживал контакты с народовольцами, в конце жизни — с
эсерами. В сфере философии М. преимущественно
популяризатор. Главным в его антропоцентрической филос. концепции было
антиметафизическое убеждение в несостоятельности любых, будь то
материалистических или идеалистических, учений о безусловной сущности,
лежащей за пределами опыта и наблюдения. Центром Вселенной и мерой вещей
является человек. К проблеме познания сущности мира М. безразличен. В духе
антропоцентризма он доказывает, что нет абсолютной истины, но есть только
истина для человека, что критерий истины следует искать в удовлетворении
познавательных потребностей человеческой природы. В сфере социологии
общефилософским установкам М. соответствует т.н. субъективный метод,
противостоящий прежде всего объективизму «органической теории» Г. Спенсера,
социал-дарвинизму, а также пассивно-созерцательным мотивам в философии
истории Г.В. Плеханова. Критику последнего неправомерно распространял на весь
марксизм. Истина, по Михайловскому, не
есть воспроизведение объективных свойств вещей, она существует лишь для
человека и удовлетворяет его познавательные способности. Именно эту сторону
должна брать социология, имеющая дело с целеполагающими и этическими
факторами человеческой деятельности, с преломлением в ней групповых
социальных интересов. Мерилом прогресса является личность, ее развитие в
«разнородных» направлениях. Однако история шла скорее по линии разделения
труда, что приводило к «однородности» личности, превращению ее в простой
придаток общественного механизма и появлению конфликтов между личностью и
обществом. Но развитие полноценной личности, полагал Михайловский, не должно
приводить к ее отчуждению от общества, напротив, она должна развиваться в
кооперации с равными себе. Полн. собр. соч. СПб., 1906—1914. Т.
1—8, 10; Последние соч. СПб., 1905. Т. 1-2.; Бердяев Н.А. Субъективизм и
индивидуализм в общественной философии. СПб., 1901; Колосов Е.Е. Очерки
мировоззрения Н.К. Михайловского. СПб., 1912. |
|
Михневич
Иосиф Григорьевич |
МИХНЕВИЧ
Иосиф Григорьевич (1809—1885) — религиозный философ, историк философии.
Окончил магистром Киевскую духовную академию, в 1836—1839 гг. был в ней
проф., а затем перешел в одесский Ришельевский лицей. Нек-рое время был
помощником попечителя Варшавского и Киевского учебных округов. Первой работой
М. было исследование "Об успехах греческих философов в теоретическом и
практическом отношениях" (Журнал Министерства народного просвещения.
1839. Ч. 24). Отдав должное греч. философам, М. переходит к рассмотрению
христианской философии. По его мнению, в новом христианском мире философия
приобретает более "возвышенное" направление, ее умственное зрение
расширяется и она обнимает всю целость бытия, сосредоточенную в верховном
начале ее. Боге. У философии два начала: "закон неписаный, природный,
закон ума" и "закон писаный, положительный, закон Откровения",
и философ должен руководствоваться тем и др. законом, в противном случае он
или "разрушит все для своей философии", или "уничтожит саму
философию". Только та философия вводит в святилище истинной мудрости,
считает М., к-рая исходит из ума, нимало не удаляясь от Откровения, ибо
"слепа та вера, в которой нет знания, но не дальновидно и то знание, в
котором нет веры". Такая философия соответствует духу "Святой Руси,
которая издревле чуждалась мудрований ума, несогласных с заветными истинами
веры". К 1850 г. относится "Опыт простого изложения системы
Шеллинга, рассматриваемый в связи с системами других германских
философов" ("Речь профессора Иосифа Михневича", Одесса).
Германия, утверждал М., заняла по справедливости первое место в истории
философии. "Это — Греция в новом мире". Что же касается русских, то
для них система Шеллинга и др. "ему подобных", доведенная до
"той высоты умозрений, на которую едва могут восходить и умы,
посвященные в таинства этой науки", важна единственно по своим
результатам, из к-рых следует, что "знание само требует веры, так как
она составляет для него и неточное начало, и верное руководство, и твердую
опору; что философия не может обойтись без религии, так как одна только
религия своими вечными истинами может доставить философии ту
"положительность", которой в настоящее время от нее требуют и
которой напрасно ищут в других источниках". Благодаря природному
настроению рус. ума, в основу к-рого, по М., положены "твердые начала
религии, охраняющие его от всех уклонений", наша философия так
сроднилась с религией, что привыкла и мыслить в ее духе, выражаться ее языком,
находя своих представителей в кругу лиц, изучающих истины ума наравне с
догматами Откровения. "Семена ложных мудрований" если и были
заносимы к нам, то никогда не могли привиться к нашей благодатной почве,
к-рая "так проникнута духом евангельского учения, что не может принимать
в себя ничего такого, что несогласно с началами нравственности и религии, на
которых незыблемо держится благоденствие России". Но если кто-то скажет,
что потому-то у нас не было и нет философии, то М. на это дает следующий ответ:
"Не было, нет и — скажем более к чести русского народа — никогда не
будет у нас того суетного мудрования, которое в буйном стремлении к
мечтательному всезнанию ниспровергает все священное и заветное; но была, есть
и будет та истинная мудрость, которая, не выходя из границ ума, всегда готова
преклониться пред верою там, где самою природою положен предел умственным
изысканиям". Все это, по мнению М., соответствует духу рус. народа,
воспитанного на традиционных началах "православия, законности и порядка".
Соч.:
Опыт постепенного развития главных действий мышления, как руководство для
первоначального преподавания логики. Одесса, 1847; Опыт простого изложения
системы Шеллинга, рассматриваемый в связи с системами других германских
философов. Одесса, 1850; Руководство к начальному изучению логики. Одесса,
1874. |
|
Мнесарх
Афинский |
МНЕСАРХ (Μνήσαρχος) Афинский (1-я пол. 2 - нач. 1 в. до н.
э.), представитель Средней Стой. Учился, возможно, у Диогена Вавилонского (ISHerc
col.
51) и определенно у Панетия (Cic. De or. I 11, 45). По свидетельствам Цицерона (Ibid.; Acad. II
69; De fin. I 2,6) в кон. 2 - нач. 1 в. до н. э. пользовался в Афинах
почетом, не меньшим авторитетом, чем до него Диоген Вавилонский, Антипатр из
Тарса и Панетий, и, вероятно, после Панетия возглавлял школу или один из ее
влиятельных «кружков» (на которые тогда делились стоики - Athen. V 186 а) наряду с Дарданом (principes stoicorum -Cic. Acad. II 69). Нумений Апамейский (fr. 28 Des Places) и Августин (С. Acad. Ill 41) называют M. учителем Антиоха Аскалонского. Сочинения
М. утрачены, названия неизвестны, а судить о его учении можно лишь на
основании отрывочных высказываний. М. считал богом космос, «первую сущность»
которого составляет пневма (Stob. I I, 29b), проводил различие между свойствами индивидуальными (το κατά το Ιδίως ποιόν) и сущностными (το κατά την ούσίαν) (Ibid. I 20, 7), не считал речевую и
породительную способности самостоятельными частями души, полагая, что таковых
только две, - разумная и чувственная (в которой, вероятно, группировалось
все, за исключением «ведущего начала») ([Galen.] Hist. phil. 24, 42). Утверждал, что
истинным оратором может быть только мудрец: искусство красноречия есть своего
рода добродетель, обладающий одной добродетелью обладает всеми;
следовательно, обладающий красноречием обладает всеми добродетелями и потому
является мудрецом (Cic. De or. 118, 83). Лит.: Ferrary J.-L Philhelénisme et
impérialisme. R., 1988, p. 451-459; Sedley D. The School, from Zeno to
Arius Didymos, - Inwood B. (ed.). The Cambridge Compation to the Stoics. Camb., 2003, p. 27-30. |
|
Модерат
из Гадиры |
МОДЕРАТ (Μοδέρατος) из Гадиры (Γάδεφα, финикийское поселение в Испании) (2-я
пол. 1 в. н. э.), философ-неопифагореец, автор сочинения «Пифагорейские
учения» в 11-й кн. (используется Порфирием в соч. «Жизнь Пифагора», 48-53) и
«О материи» (ср. Simpl. In Phys. 230, 34 sq. Diels). Сводка мнений M. о душе дается Ямвлихом (De anima, ар. Stob. 149, 32. 41-54), его рассуждения о природе числа, схожие с
пассажами из Теона Смирнского (р. 18, 3 sq. Hiller), приводятся у Стобея (Stob. I 8, 3-11). На основании сохранившихся фрагментов можно
предположить, что М. предвосхищает ряд концепций, традиционно считавшихся
основными инновациями Плотина. Так, М. принадлежит учение о трех единых:
первом - превосходящем бытие и всякую сущность, втором - умопостигаемом, которое
есть истинно сущее и которое М. отождествляет с идеями, и третьем - душевном,
которое существует в силу приобщения к первому и второму единому и к идеям.
Т. обр., у М. очевидно прослеживается система трех сверхчувственных
ипостасей, которую долгое время считали отличительной чертой неоплатонизма. Как
показал Э. Р. Доддс, эта система могла быть разработана М. в ходе толкования
трех первых гипотез платоновского «Парменида», а также второго платоновского
письма, где говорится о трех царях (Epist. II, 312е). Комментируя Платона,
М., вероятно, полагал, что вычленяет из его сочинений исконные пифагорейские
доктрины, скрытые там под видом упражнений в диалектике. В приводимом
Порфирием отрывке из «Пифагорейских учений» (V. Pyth. 53) M. прямо обвиняет Платона, Аристотеля и
других членов древней Академии в плагиате у пифагорейцев. По его словам, те присвоили
себе все выводы пифагорейской школы, «изменив в них разве что самую малость»,
а все самое дешевое, пошлое и удобное для осмеяния выдали за подлинную суть
пифагорейского учения, чем обрекли его на упадок и забвение. Не исключено,
что к числу такого рода «пифагорейских доктрин», вычитанных M. y Платона, относилось и учение о двух материях: одной, которая
присутствует в умопостигаемом мире в виде количества (ποσότης) и представляет собой первичное
проявление небытия, и другой, которая является «тенью» и отражением первой и
составляет материю чувственно воспринимаемых вещей. Эта последняя непричастна
высшим принципам и лишь по видимости (κατ' βμφασι,ν) упорядочивается умопостигаемыми формами. Началом самой материи
М. считал неопределенную двоицу, полагая, что о первообразах и первопричинах
сущего можно говорить не иначе как при помощи числового символизма, поскольку
сами по себе они труднопостижимы и трудновыразимы. Вот почему причину
тождества, равенства, единодушия и сочувствия всего в мире пифагорейцы
обозначают как «единое», а причину несогласия, неравенства, делимости и
изменчивости - как «двоицу» (V. Pyth. 48-50). Подобным же образом М. предпочитал описывать и душу.
Он не только соотносил ее с третьим единым, но и определял ее сущность как
«число, заключенное в пропорциях» (Stob. I 49, 32. 41) или как математическую гармонию, «делающую
согласными и соразмерными вещи, различные в каком-либо отношении» (I, 49, 32,
52-54). Также на примере чисел М. демонстрировал и процесс разворачивания
всего сущего из единства во множество и обратно. Во всяком случае, именно в
этом смысле можно истолковать его определение числа как «начинающегося с
единицы исхождения (προποδισμός) во множество и заканчивающегося в
единице возвращения (άναποδισμός)» (I, 8, 3-5). Как показал Уитаккер,
едва ли можно признать самого М. автором всех перечисленных концепций. Скорее
всего, он был одним из представителей уже сложившейся к началу 1 в. н. э.
неопифагорейской традиции, для которой был характерен отказ от
среднеплатонического отождествления единого с умом-нусом, отождествление
материи с принципом неопределенной множественности и использование числового
символизма для описания первых начал сущего. Эта традиция могла оказать
влияние на Аммония Саккаса, а через него - на Плотина. Лит.: Dodds Ε. R.
The «Parmenides» of Plato and the Origin of the Neoplatonic «One», -CQ 22,
1928, p. 129-142; Whittaker J. Epekeina nou kai ousias, - VChr 23, 1969, p.
91-104; Idem. Neopythagoreanism and Negative Theology, - SymbO 44, 1969, p.
109-125; Idem. Neopythagoreanism and the Transcendent Absolute, - Ibid. 48,
1973, p. 77-86; Dillon J. The Middle Platonists. A Study of Platonism 80 B.C.
to A. D. 220, p. 344-351 (рус. пер.: Диллон Дж. Средние платоники. СПб., 2002, с. 329-336); Tornau Chr. Die Prinzipienlehre
des Moderatos von Gades. Zu Simplikios In Phys. 230,34-231,24 Diels, - RhM 143,
2000, S. 197-220. |
|
Моисеев
Никита Николаевич |
МОИСЕЕВ Никита Николаевич
(1917—2000) — математик, исследовал также методологические и философские
проблемы развития науки и техники, вопросы экологии; доктор
физико-математических наук (с 1953). Родился в Москве. В 1941 окончил
математический факультет Московского университета по специальности
«функциональный анализ». Профессор Московского физико-технического института
с 1954. Действительный член РАН, действительный член Российской Академии
сельскохозяйственных наук, почетный член РАЕН, действительный член
Международной академии астронавтики. Основные направления исследовательской
деятельности: прикладная математика и ее использование для решения сложных
задач физики и техники (1946—1975); теория управления и методы оптимизации, в
том числе природопользования (1960—1982); математические модели динамики
биосферы (1970): в рамках этого направления были разработаны математические
модели, позволившие в 1983 получить первые количественные оценки возможных
последствий ядерной войны, известные как «ядерная зима» и «ядерная ночь»;
методологические проблемы взаимоотношения биосферы и общества (с 1975). В
основе исследований. Моисеева в области методологии лежат конкретные вопросы,
возникшие в процессе разработки математической модели биосферы. При изучении
этих вопросов расширены традиционные представления о месте природы в развитии
общества и о роли общества в процессах планетарного масштаба. Это в свою
очередь индуцировало потребности в пересмотре ряда установившихся взглядов на
содержание естественнонаучного знания и на зависимость его от проблем
гуманитарного характера. В результате была сформирована концепция «картины
мира», лежащая, как считает Моисеев, в контексте того направления, которое
естественно называть современным рационализмом. Основой разрабатываемой
Моисеевым рационалистической схемы является представление об Универсуме как
единой целостной системе. Эта система эволюционирует в силу общих законов
самоорганизации, которые рассматриваются как некоторые эмпирические
обобщения. Стохастичность и наличие неопределенности принимаются как
изначальные свойства Универсума. По Моисееву, — это условность выделения
отдельных подсистем, как и условность субъект-объектного описания, носящего
субъективный смысл, зависящий от постановки задачи исследователя. В процессах
самоорганизации (или универсального эволюционизма, по терминологии Моисеева)
важную роль играют явления бифуркации (в смысле А.Пуанкаре). С бифуркацией и
стохастичностью связана необратимость эволюционного процесса. В этой схеме
процессы развития неживого мира, живого вещества и общества могут
рассматриваться как связанные в единое целое различные явления процесса
самоорганизации. Согласно Моисееву, такая позиция позволяет увидеть многие
особенности антропогенеза и развития цивилизаций — в частности, дает новое
видение экологии человека. |
|
Молешотт
Якоб |
МОЛЕШОТТ (Moleschott) Якоб (род. 9 авг. 1822,
Хертогенбос – ум. 20 мая 1893, Рим) – нидерл. физиолог и философ; с 1847 по
1854 – приват-доцент в Гейдельберге, позже профессор в Цюрихе (с 1856),
Турине (с 1861) и Риме (с 1879). Как физиолог и противник метафизики, он
пришел к материализму. По
Молешотту, все психологические и духовные процессы имеют физиологическую
природу и зависят, в частности, от характера пищи. Вещество и силу понимал
как единство, которому в мозгу человека соответствуют волнение и мышление.
Осн. произв.: «Kreislauf des Lebens.
Philosophische Antworten auf Liebigs Chemische Briefe», 1852 (рус. пер. «Круговорот жизни. Физиологические ответы на письма
о химии Ю.Либиха», 1866); «Fьr meine Freunde.
Lebenserinnerungen», 1894. |
|
Момджян
Карен Хачикович |
МОМДЖЯН Карен Хачикович (р. 1948) —
специалист в области социальной философии и общей социологии. Доктор филос.
наук (1989), проф. (1990). В 1971 окончил филос. факультет МГУ, в 1974 —
аспирантуру того же факультета. С тех пор работает на филос. факультете МГУ;
с 1989 — зав. кафедрой социальной философии. Под редакцией М. вышла
коллективная монография «Общество как предмет социально-философского
исследования» (М., 1987), он являлся редактором материалов Всесоюзной
конференции «Социальная философия в конце XX века» (М., 1991). Основные темы
исследований М.: методологические проблемы обществознания, специфика
социально-философского познания общества; субстанциональная специфика
социума; социально-философская концепция деятельности; принципы
структурно-функционального анализа социальных систем; проблемы философии
истории и историософии России; современные интерпретации социальной философии
К. Маркса. М. развивает идею деятельностного подхода к социальной реальности,
рассматривая все формообразования социума как модусы и атрибуты субстанции
деятельности. Им разрабатывается концепция общества как организационной формы
самодостаточной деятельности людей, предложена многоуровневая модель
социальной системы, в основе которой лежит типология необходимых форм
деятельности. Особое внимание М. уделяет проблемам концептуальной природы
социально-философского познания: им предложена модель «бинарной»
философско-социологической теории, предпринята попытка систематизации
социально-философских категорий, рефлексивного изложения социальной философии
методом восхождения от абстрактного к конкретному. М. исследует причины
возникшего в современной социальной теории «кризиса фрагментации», который
проявляется в беспрецедентном разбросе мнений о природе социальной реальности
и способах ее филос. и социологического постижения. В отличие от
исследователей, считающих подобное состояние естественным и неизбежным, М.
ищет пути построения интегральной социальной теории, основанной на принципах
взаимодополнения идей, которые несовместимы лишь в случае их концептуальной
абсолютизации. М. разрабатывается многоуровневая и многоаспектная система
философско-социологического знания, в рамках которой возможно неэклектическое
сосуществование и взаимодействие рефлективных и валюативных парадигм
познания, позиций «методологического коллективизма» и «методологического
индивидуализма», универсалистских и сингуляристских трактовок общества,
социоцентризма и антропоцентризма, концепций структурности и структурации,
морфостазиса и морфогенеза, монистического и плюралистического подхода к
детерминантам и доминантам социального процесса и т.д. Концептуальная природа исторического
материализма. М., 1982; Место исторического материализма в системе
общественных наук (в соавт.) // Исторический материализм как
социально-философская теория. М., 1982; Критика современной буржуазной
социальной философии // Там же; Категории исторического материализма:
системность, развитие. М., 1986; Что такое общество? М., 1991; Исторические
закономерности. М., 1991; Даже гений не может быть революционером и ученым
сразу // Марксизм; pro et contra. M., 1992; Что такое общество? // Человек и
общество. М., 1993. Кн. I; «Анатомия» общества // Там же; Функционирование и
развитие общества // Там же; Закономерности исторического процесса // Там же;
Социум. Общество. История. М., 1994. Ч. I; Состояние и перспективы
отечественной социальной философии // Проблемы преподавания философии в
высшей школе. М., 1996; Философия: Учебник для вузов: В 2 ч. (всоавт.с В.Г.
Кузнецовым и В.В. Мироновым). М., 1996; Общество и история глазами философа
// Философия: Учебник для студентов вузов: В 2 т. М., 1997; Введение в
социальную философию. М., 1997; Философия. Учение о бытии, познании и
ценностях человеческого существования: Учебник (в соавт). М., 1999. Понятие
общества // Обществознание: Учеб. пособие для поступающих в вузы. М., 1999; Человек. Общество. История // Обществознание. М., 2000; The fate of marxism in post-totalitarian
Russia // Democratization. Washington, 1992. №2. |
|
Моним из
Сиракуз |
МОНИМ (Μόνιμος) из Сиракуз (2-я пол. 4 в. до н. э.),
философ-киник, последователь Диогена Синопского и Кратета Фиванского. Краткая
биография M. y Диогена Лаэртия отличается изрядной даже для Диогена
занимательностью; едва ли не самая информативная ее часть содержится в цитате
из комедиографа Менандра (D. L. VI 82-83). М. был рабом (в Коринфе, и его
хозяин был знаком с хозяином Диогена Синопского), но получил свободу
благодаря хитрой уловке, притворившись безумным. После этого М. немедленно
пошел в ученики к Диогену, воспринял кинический образ жизни и соответствующий
костюм, завел себе целых три сумы, а не одну и усвоил киническое морализаторство.
М. «был престрог, презирал мнимое, побуждал к истине» (VI 83), его девизом
стала освященная памятью Сократа дельфийская максима «Познай самого себя». Диоген
Лаэртий сообщает о трех сочинениях М.: «Безделицы и в шутку И всерьез» (Παίγνια onovbfj λεληθυία μβμιγμβνα), «Ο побуждениях» (IJepl όρμων) и «Протрептик». Невозможно установить,
какому сочинению принадлежат сохраненные доксографами изречения. Возможно,
тема соч. «О побуждениях» была связана с установкой на «побуждение к истине»,
о котором сообщает Диоген Лаэртий (см. выше), и в нем М. развивал мысль
своего наставника Диогена Синопского о жизни в согласии с природой, т. е. с
естественными побуждениями (гипотеза Dudley, p. 41). Наиболее известное
высказывание М. зафиксировано в двух версиях: «Все нами воспринятое
иллюзорно» (τΰφον) (из комедии Менандра «Конюший», цит.
по D. L.
VI 83, ср. Марк Аврелий, Размышления II, 15) и «все - иллюзия» (τΰφον rà πάντα) (Sext. Adv. math. VIII 5), что Секст
толкует как мнение «о несуществующем как о существующем». Кроме этого,
имеются два изречения М. вполне в кинической стилистике обличения богатства и
невежества: «От богатства судьбе тошно» (Stob. IV 31с, 89 = SSR II, cap. V G, fr. 4); «Лучше уж слепой, чем невежа: первый может упасть, а
второй - пропасть» (Stob. II 31, 88 = SSR, fr. 5). Источники: Giannantoni,
SSR II, p. 519-521 (cap. V G. Monimus Syracusanus). Лит.: Fritz K. v. Monimos(10),-RE,XVI, 1, 1933,col.
126-127; DudleyD. R. A History of Cynicism. L., p. 40-42; Döring
К. -
GGPh, Antike 2. 1, 1998, S. 302-304; Goulet-Cazé M-O.
Monime de Syracuse, - DPhA IV, 2005, p. 549-552. |
|
Монтегю
Уильям Пепперелл |
МОНТЕГЮ (Montague) Уильям Пепперелл (род. 24
нояб. 1873, Челси, Массачусетс – ум. 1953, Нью-Йорк) – амер. философ; с 1920
– профессор Колумбийского ун-та в Нью-Йорке, находился под влиянием Ройса, близок
к идеалистическому персонализму. Ведущий представитель амер. неореализма. Знание
и веру он пытался соединить в «спиритуалистическом», или «анимистическом»,
материализме. Задача философии, согласно Монтегю, – формирование
действительности. Осн. произв.: «The new realism» (в соавторстве с другими), 1912; «The ways of knowing or the methods of philosophy», 1925; «The ways of things. A philosophy of
knowledge, nature and value», 1940. |
|
Монтень
Мишель Эйкем де |
MOHTEHЬ (Montaigne) Мишель
Эйкем де (род. 28 февр. 1533, замок Монтень, в Перигоре – ум. 13 сент. 1592,
там же) – франц. юрист, политик и философ эпохи Возрождения, занимавшийся
проблемами морали; блестящий писатель и очеркист, по своему мировоззрению
ярко выраженный скептик (его постоянный вопрос: Что я знаю? – Que sais je?),
о значительном влиянии которого свидетельствует вся франц. философия
вплоть до Бергсона. Монтень разоблачал суетность людей и бесполезность
человеческого разума, все вновь и вновь ссылаясь на сомнительность
человеческого существования (при этом он опирался на идеи Стой). Природа –
воспитатель. Большая часть традиционного слишком неважна, чтобы для ее
ниспровержения подвергаться опасности. Благоразумие в жизни – самая
необходимая добродетель. Вошёл в историю как автор книги «Опыты», которая
пользовалась большой популярностью среди образованных людей в XVI
веке. Мишель де Монтень, биография которого тесно связана с
просветительской деятельностью, был человеком передовых взглядов,
чьё творчество намного опередило своё время. Будущий философ появился на свет 28 февраля 1533
года в фамильном замке во французском городе Сен-Мишель-де Монтень,
расположенном неподалёку от Бордо. Мальчик родился с титулом дворянина,
однако его семья лишь относительно недавно была причислена к
аристократическому кругу Франции — до этого предки Мишеля были купцами. Монтень-старший, занимавший пост мэра Бордо, имел
своё представление о воспитании и образовании отпрыска. Он нанял Мишелю
учителя, который говорил с мальчиком исключительно на латыни. В то время этот
сложный язык был обязательным для всех образованных европейских
элит. Интересный факт: на латыни разговаривать с Мишелем должны
были все без исключения, и родители, и прислуга. В возрасте 6 лет Мишель, получивший прекрасное
домашнее образование, стал учеником престижной школы. Родители позаботились о блестящем будущем для сына,
купив ему судейскую должность. По окончании Тулузского университета, где
Мишель углублённо изучал право и философию, он приступил к практике. В молодости Мишель де Монтень планировал связать
свою судьбу с политической деятельностью. Он был весьма амбициозным
человеком, а происхождение и отличное образование позволили ему дважды
избираться мэром Бордо. Кроме того, он получил опыт в качестве советника
парламента. Философу довелось жить в непростой период
религиозных войн. Будучи от природы человеком миролюбивым, он отрицал любое
насилие над личностью. Мишель де Монтень занимал умеренную позицию, стремился
к примирению враждующих сторон, за что был арестован сторонникам Католической
лиги и провёл день в Бастилии. Монтень пользовался славой образованного, мыслящего
человека, и многие видные государственные и общественные деятели были его
добрыми знакомыми. После смерти отца в 1568 году Мишель де Монтень
получил большое наследство. Продав свою судейскую должность и выйдя в
отставку, он поселился в родовом имении. Так, в возрасте 38 лет, он получил
возможность заниматься тем, о чём давно мечтал, — литературой. В 1572 году Монтень приступил к работе над своими
философско-литературными «Опытами», и спустя 8 лет были опубликованы первые
две книги. Просвещённая публика с восторгом приняла труд Мишеля де Монтеня,
разобрав его на цитаты и афоризмы. «Опыты» стали, по сути, изложением мыслей
Монтеня по поводу важных исторических событий, его наблюдений за самыми
разными людьми. На протяжении многих лет эта книга пользовалась большой популярностью
благодаря своему гуманизму, искренности и тонкому юмору. При изучении краткой биографии Мишеля
Монтеня стоит отметить путешествие по Европе, которое философ совершил сразу
после публикации «Опытов». Он побывал в Германии, Австрии, Швейцарии, Италии.
По возвращении домой он написал дополнения к первым двум книгам и опубликовал
третью книгу «Опытов», которая во многом носила автобиографический характер. В возрасте 32 лет Мишель де Монтень взял в жены
девушку из зажиточного семейства, чьё богатое приданое только укрепило его
материальное положение. В этом браке у супругов родилось много детей, но все
они умирали в младенчестве. До зрелых лет дожила лишь одна дочь. Скончался Мишель де Монтень 13
сентября 1592 года в собственном замке. Осн. произв.: «Essais», 1580 (рус. пер. «Опыты», 1954). |
|
Монтескье
Шарль Луи |
МОНТЕСКЬЕ (Montesquieu) Шарль Луи, Шарль де Секонда,
барон де Ла Бред и де Монтескье (род. 18 янв. 1689, Лабред, близ Бордо – ум.
10 февр. 1755, Париж) – франц. философ права и истории, представитель
философии французского Просвещения. Он происходил из гасконского дворянского
рода. Получив классическое и юридическое образование, был на различных
должностях в судебных учреждениях, что дало ему возможность изучить
юридическую практику Франции того времени. Затем Монтескье отходит от всего
этого и посвящает себя изучению естественных и общественных наук. Первый его
литературный опыт - роман «Персидские письма» (1721) - имел огромный успех. В
нем он подверг критике феодально-абсолютистский режим. В своем осн. соч. «De l'esprit des lois», 1747 (рус.
пер. «О духе законов», 1809 – 1814) отказался от формалистического мышления о
праве и пытался объяснить законы и политическую жизнь различных стран и
народов, исходя из их природных и исторических условий, в духе теории среды.
На примере англ, конституции, которую он рассматривал как самую
прогрессивную, а франц. – как регрессивную (см. «Lettres persanes», 1721 – рус.
пер. «Персидские письма», 18,92), Монтескье развивал вслед за Локком теорию разделения
государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную. В своем «Considerations
sur les causes de la grandeur des
Romains et de leur decadence», 1734
(рус. пер. «Рассуждение о причинах величия и падения римлян»,
1769) он исследовал расцвет и упадок рим. государства. В своей социальной философии
Монтескье рассматривает причины существования разных форм общества, полагая,
что для того, чтобы понять ту или иную форму общественного развития,
необходимо понять то законодательство, которое существует в данном обществе. Монтескье различал два типа
законов, существующих в обществе: 1) «естественные», которые определяются
биологическими, природными характеристиками человека и выражают его отношения
к природе и к другим людям, но, так сказать, во внеобщественном состоянии; 2)
социальные законы. Монтескье выделял три основных
образа правления, существовавших в истории: республиканский, монархический,
деспотический. Он полагал, что юридические нормы государства определяются
формой государства, законы же - это юридически выраженные правила,
определяющие отношения между верховной властью и членами общества. Эти
законы, согласно Монтескье, формируют политическую свободу, состоящую в том,
что каждый имеет право делать все, что дозволено законами. Смысл концепции
Монтескье сводился к утверждению, что законодательства, характерные для
определенных форм правления, а именно демократической, монархической и
деспотической, детерминированы различными факторами: характером политической
власти, почвой, рельефом (т.е. географической средой), нравами, обычаями,
религиозными верованиями, численностью населения. Тем самым Монтескье попытался
осознать общество как целое, объединенное целым рядом условий, факторов. Эта
целостность и определяет, согласно Монтескье, «дух народов». Каждая форма
правления - своеобразная структура, все элементы которой взаимосвязаны и
необходимы для функционирования целого. В каждой социальной структуре
главным элементом Монтескье считал ту или иную человеческую страсть, которая
дает возможность действовать, чтобы сохранить устойчивое состояние. Для
республики характерна добродетель, для монархии - честь, для деспотии -
страх. Если та или иная «страсть», или психологический принцип, ослабляется,
то эта форма правления рушится. Тем самым Монтескье устанавливал определенную
зависимость между формами правления и психологией народов, что имело под
собой важные основания. Монтескье выводил эти зависимости из географической среды,
в которой главную роль играли климат, почва и рельеф местности. Составная часть учения Монтескье
- его концепция «разделения властей», которая в определенной степени была
развитием идей Локка. Монтескье указывал, что разделение законодательной,
исполнительной и судебной властей должно быть при любой форме правления, как
при монархии, так и при демократии. Он писал, что необходимо разделить
«власть создавать законы, власть приводить в исполнение постановления
общегосударственного характера и власть судить преступления или тяжбы частных
лиц». Только подобное государственное устройство, в котором все эти власти
разделены, может обеспечить такое положение, «при котором никого не будут
понуждать делать то, к чему его не обязывает закон, и не делать того, что
закон ему дозволяет» [Избр. произв. М., 1955. С. 289]. Эта концепция
Монтескье имела огромное демократическое содержание и не потеряла своего
значения до настоящего времени. |
|
Мопертюи
Пьер Луи Моро |
МОПЕРТЮИ (Maupertuis) Пьер Луи Моро (род. 28 сент.
1698, Сен-Мало – ум. 27 июля 1759, Базель) – франц. физик и математик. В 1741
приглашен Фридрихом Великим в качестве президента Берлинской академии;
решительно насаждал учение Ньютона во
франц. философии; следуя Юму, работал
над эмпирическим выведением принципов математики; открыл принцип наименьшего
действия и пытался на этом основать доказательство Бога («Essai de cosmologie», 1759), что
привело его к конфликту с Вольтером. |
|
Мор Генри |
MOP (More) Генри
(род. 1614, Грентхейм – ум. 1 сент. 1687, Кембридж) – англ, философ и теолог,
профессор. Исходным пунктом его философии было кар. тезианство, но со
временем он все чаще обращался к платонизму и мистике, в развитии которых
сыграл известную роль (с одной стороны, благодаря Якобу Бёме, с другой –
благодаря каббале). Соч. (лат.) в 3 тт., 1679. |
|
Мор Томас |
MOP (More) Томас (род. 7 февр. 1478, Лондон – ум. 6 июля
1535, там же: казнен по повелению Генриха VIII) – англ, юрист и философ, занимавшийся проблемами
государства; английский проповедник гуманных идей, активный участник
политических событий. Занимал должность лорд-канцлера страны в 1529,
поддерживал Контрреформацию. Писатель разработал основы утопического
социализма, идеального общественного строя, что важно упомянуть
в докладе о Томасе Море. Биография гуманиста
свидетельствует о его успешной жизни с трагическим концом. Томас Мор родился в семье английского судьи 7
февраля (21 февраля) 1478 года. Его отец, Джон Мор заседал в Лондонском
Высшем королевском суде. Отец для него стал образцом благородных, честных,
высокоморальных принципов. Начальное образование Томас получил в
грамматической школе Святого Антония. В 13 лет юношу приняли в пажи при кардинале Джоне
Мортоне, который работал лорд-канцлером английского королевства. У молодого
Томаса Мора был очень веселый нрав, он проявлял остроумие и любознательность.
Кардинал пророчил Томасу изумительное будущее. Великие
юристы страны (Вильям Гросин, Томас Линакр) обучали юношу, который
с интересом и легкостью изучал науку юриспруденции. На одних законах он не
остановился и увлекся произведениями гуманистов. В 1492 году Томас поступил в Оксфорд, а через два
года приехал в Лондон учиться английскому праву. Его учителями были опытные
юристы той эпохи. Это позволило ему стать прекрасным адвокатом.
Молодой Мор также изучал философию, латинский и греческий языки и вскоре стал
писать свои философские размышления. В 1497 году известный гуманист Эразм Роттердамский
пригласил Томаса в свой кружок и познакомил с известными мыслителями.
Дальнейший выбор жизненного пути был неожиданным: мыслитель отправился в
лондонский Картезианский монастырь, где жил с 1501 по 1504 год. Потом он
оставил обитель, решив служить не только Богу, но и Англии. Религиозные привычки
остались при нём на всю жизнь. Кратко нужно сказать о том, что кроме
адвокатской работы Мор вступил в Парламент от столичного купечества. Политик
не мирился с налоговым произволом при короле Генрихе VII. Власти заставили
его оставить политику и вернуться в адвокаты. Параллельно Томас Мор создал
несколько литературных произведений. С приходом к власти Генриха VIII в 1510 году литератор и юрист
вновь вернулся в законодательную систему страны. К тому же, он стал
помощником шерифа Лондона. Через пять лет его включили в состав английского
посольства. Мор был отличным переговорщиком. В 1515 году Томас начал писать свое самое
важное произведение — «Утопию». Произведение состояло из трех книг и
предназначалось просвещенным правителям и ученым-гуманистам. В этом своем
философском соч. о государстве (в соответствии с чем все политические книги
стали называться «утопиями»), которое вышло в свет в 1516 на лат. языке (рус.
пер. 1947), он переносит свое идеальное государство на далекий остров. Мор
требует отчуждения собственности индивидов в пользу государства,
напоминающего «государство» Платона, требует религиозной веротерпимости,
возможно меньшего количества религиозных догм и передачи дела воспитания
юношества духовенству. Политик предлагал идею ликвидировать частные владения,
уравновесить потребление и производство, что сделало бы жизнь людей
более простой и счастливой. Философ приветствовал труд, но только не
изнурительный. Томас Мор мечтал о возрождении демократии и
равноправия, несмотря на свою приближенность к монарху. Вскоре в
его творчестве появилась другая книга — «История Ричарда III». После публикации «Утопии» король предложил ему
должность личного консультанта. Потом утописта взяли в Королевский совет для
ведения документации. В 1521 году Мор стал судьей в «Звездной палате».
Передовые идеи позволили Томасу стать рыцарем и помощником в
казначействе. В 1525 году гуманист дослужился до лорд-канцлера. Еще до того как Томас стал знаменитым, он взял в
жены семнадцатилетнюю Джейн Кольт. Эта девушка из Эссекса отличалась
спокойным и уравновешенным нравом, родила мыслителю сына и трех дочерей.
Счастливая семья, которую создал философ, продержалась 6 лет, после
чего Джейн умерла от лихорадки. Мать детям заменила вторая жена Мора, вдова
Элис Миддлтон. Вместе они прожили до самой смерти. Томас Мор придерживался глубоких религиозных
верований. Когда Генриху VIII понадобилось развестись с женой, он обратился к
Папе Римскому. Священник отказал в разводе. Король тогда перешел на сторону
англикан. Вскоре монарх женился на Анне Болейн. Томас Мор возмутился
действиями Генриха и добился публичного осуждения короля. Канцлер не желал
признавать новый брак законным, за что был брошен в тюрьму, а потом казнен за
государственную измену 6 июля 1535 года. В 1935 году католики возвели Томаса
Мора в лик святых. |
|
Морган
Конви Ллойд |
МОРГАН (Morgan) Конви Ллойд (род. 6 февр. 1852, Лондон – ум. 1936)
англ, биолог и психолог; с 1884 – профессор в Бристоле; неореалист, близкий
по своим взглядам к философии С. Александера (см. Эмердженция). Развитие является не только рядом непрерывных
восходящих движений, обеспеченных благодаря результирующей (the resultant), но, кроме того, и возникновением совершенно новых
закономерностей и рядов развития, вызываемых посредством восходящего (the emergent). Поскольку каждый физический объект одновременно
является и психическим, то сознание относится также к восходящему развитию,
которое как целое указывает на существование Богатворца и на божественный
план в устройстве мира. Осн. произв.: «Habit and instinct», 1896; «Animal behavior»,
1900; «Instinct and experience», 1912; «Emergent evolution», 1923; «A
philosophy of evolution», 1924; «Life, mind and spirit», 1926; «The emergence
of novelty», 1933. |
|
Морган
Льюис Генри |
МОРГАН (Morgan) Льюис Генри (род. 21 нояб. 1818, Аврора, Нью-Йорк
– ум. 17 дек. 1881, Рочестер) – амер.,социолог. Известен своей книгой «Ancient society», 1877 (рус. пер. «Древнее общество», 1900), в
которой он говорит о существовании ряда ступеней в развитии семьи: 1)
неограниченный промискуитет; 2) единокровная семья (браки запрещены только
между родителями и детьми); 3) семья пуналуа (запрет браков также между
сестрами и братьями; свободный доступ всех мужчин племени ко всем женщинам
его; групповой брак); 4) матриархат, начало индивидуального брака, полигамия;
5) патриархат, полигамная семья; 6) моногамный индивидуальный брак. Эта
теория приобрела в свое время большое влияние. |
|
Морелли
Витри-ле-Франсуа |
МОРЕЛЛИ (Morelly) (род. 1769, Витри-ле-Франсуа – год смерти и
настоящее имя неизвестны) – франц. философ-социолог, аббат, представитель
франц. утопического коммунизма. Автор, о котором
нет достоверных данных. Нет даже уверенности, что такой человек вообще
существовал. Его «Code de la nature», 1755 – 1760 (рус. пер. «Кодекс природы, или
Истинный дух ее законов», 1921) явился вкладом в идеологию франц. революции
1789; ссылаясь на Платона, он защищал утопически-гуманистическую
коммунистическую доктрину и характеризовал частную собственность и лежащий в
ее основе эгоизм как корень всех раздоров и всех несчастий. Морелли
предполагал, что коммунизм будет осуществлен не в отдельных небольших
общинах, как считали ранние утописты, а в масштабе целой страны с
централизованным учетом и распределением труда и его продуктов. Реабилитируя в противовес рационализму
17 в. эффектное начало в человеке, М. изображает последнего в качестве
существа, созданного для счастья, по природе своей открытого общению с себе
подобными и находящего удовлетворение в совместном труде. В естественном
состоянии люди всем владеют сообща и ощущают себя братьями. В дальнейшем, с
ростом населения между людьми возникает соперничество, сознание родства
ослабляется, возникает частная собственность. Не находя ей места в будущей
социальной организации, М. не отрицает, однако, ее значения для настоящего и
прошлого человечества. Будучи несомненным злом, она в то же время является
мощным стимулом для возвращения человека к идее равенства, т.е. к собственной
природе. Начало реализации этой идеи связывается М. с обнародованием
сформулированных им трех законов, по которым должно строиться
коммунистическое общество. В них, во-первых, фиксируется общность имущества,
во-вторых, выдвигается требование обеспечения работой и содержанием за
общественный счет каждого трудоспособного гражданина и, в-третьих,
определяется обязанность каждого члена общества содействовать общественной
пользе сообразно своим возможностям. Утопия М. исключает обмен и денежное
обращение. Граждане прибегают к услугам общественных магазинов. Обязательно
участие в сельскохозяйственных работах. Замещать общественные должности имеют
право только отцы семейств в порядке очередности. Это требование подчеркивает
патриархальную ориентацию проекта М. Выборное представительство не
допускается. М. рассматривает историю как реализацию предвечных целей Бога,
который понимается в духе деизма. Вводится государственная религия.
Существующие же религии объявляются суевериями. Взгляды М. оказали влияние на Г. Бабефа
и фр. утопических коммунистов (Э. Кабе, М. Дезами и др.). Le code de la
nature. Amsterdam, 1755.; Волгин В.П. Французский утопический коммунизм.
М., 1960; Reverdy A. Morelly: idees
philosophiques, economiques et politiques. Poitier, 1909. |
|
Морено
Якоб Леви |
МОРЕНО (Могепо) Якоб (Джекоб)
Леви (род. 20 мая 1892, Бухарест – ум. 14 мая 1974, Бикон, США) – амер.
психиатр и социальный психолог, основатель социометрии. Изучал
психологические аспекты поведения малых социальных групп, уделяя главное
внимание эмоциональным отношениям (чувствам симпатии, антипатии,
безразличия), поскольку считал, опираясь на психоанализ и гештальтпсихологию,
что психическое здоровье человека обусловлено его положением в малой группе,
в системе межиндивидуальных влечений. Процедуры социометрии (социометрические
тесты и др.) позволяют выявлять невидимые эмоциональные союзы между людьми,
измерять их и фиксировать результаты в специальных программах. Применение
социометрических методов позволяет достигать определенных практических
результатов при лечении неврозов, смягчении конфликтных ситуаций, повышении
производительности труда на предприятиях, ослаблении противоречий между
структурами управления и т. д. Осн. труды: «Sociometry and the cultural order», 1934; «Sociometry and the science of man», 1956; на рус. яз. – «Социометрия,
Экспериментальный метод и наука об обществе», М., 1,958. |
|
Морозов
Николай Александрович |
МОРОЗОВ Николай Александрович
(25.06 (7.07). 1854, Ярославская губ. — 30.07.1946) — революционный народник,
ученый, писатель, член исполкома "Народной воли", участник
покушений на Александра II. М. провел
в одиночке Шлиссельбургской крепости 22 года. После Октября 1917 г. —
почетный академик (по предложению Ленина, выдавшего М. охранную грамоту на
имение). Как общественный деятель сформировался под
влиянием "русского социализма", ценил труды Прудона и Чернышевского
(у последнего выделял политэкономию трудящихся и теорию разумного эгоизма). Под
влиянием заговорщического социализма Ткачева М. в статье "Русское
террористическое движение" (опубликована в эмигрантской газ. "Общее
дело", 1880) изложил концепцию террористической революции. Он утверждал,
что "внутренние причины революций вечно одни и те же" — ухудшение положения
масс и взрыв их недовольства. Вместе с тем революции неодинаковы,
своеобразны. Своеобразие рус. революции происходит из отсталости
патриархального крестьянства, незначительности городского пролетариата и
наличия активной интеллигенции, готовой "подтолкнуть историю",
сводя счеты с реакционным правительством и продажной бюрократией.
Интеллигентское революционное меньшинство, "сильное и страшное
своей энергией и неуловимостью", обретает в террористической революции,
"самой справедливой из всех форм революций", рычаг для социального
переворота. Она более гуманна, нежели "массовая революция, где гибнет
много людей", и требует меньше "личных сил". Террор, включая
индивидуальный, по М., — это месть "за поруганное человеческое
достоинство" и одновременно "действие самозащиты партии". Он
считал, что "3—4 удачных и быстро идущих одно за другим
цареубийств" развяжут социальную революцию, а в перспективе откроют
"широкую дорогу для социалистической деятельности в России". В
Шлиссельбурге и после революции 1905 г.
М. обратился к изучению истории
философии, науки, религии и христианства. Он резко критиковал религиозное
миросозерцание, мн. события "Священной
истории" (Ветхого и Нового Заветов) связывал с космическими
процессами, уточняя их на основе данных древн. источников о затмениях Солнца,
Луны, движении комет и метеоритов, землетрясений. Считал, что начало
христианства было стихийно-демократическим, а его первичной формой выступал
"монашеский коммунизм", затем оно выродилось, ибо приспособилось к
интересам власти. Православие, по М.. всегда "оставалось вне жизни"
и потому еще "ниже критики", чем самодержавие. Возникновение и
развитие философии М. усматривал в ее антропологической природе и связывал с
решением вопроса: ' "Как произошел человек и все его окружающее?" В
общих проблемах науки примыкал к механистическому материализму, считая, что
"первоначальные силы природы немногочисленны" и объясняются на
основе законов механики. Диалектика представлялась М. методом абстрактной
философии, а не конкретных наук, к-рые не обязаны ей ни одним своим
открытием. В вопросах общественной теории придерживался своей версии
"эволюционной социологии". Личность, по его мнению, имеет приоритет
перед "абстракцией общества", поэтому в основе социологии лежит
психология. Эволюция психики человека есть причина его социальной эволюции.
Человек стремится к свободе, и его деятельность, фиксируемую в исторических
событиях, следует рассматривать в первую очередь с т. зр. эволюционной
справедливости, нравственной ценности. Что касается таких факторов, как
классы и классовая борьба, то они, по мнению М., преходящи, играют лишь роль
средств достижения лучшей жизни для будущих поколений. Соч.: Литературная злоба дня
//Отечественные записки. 1877. № 1; Русское террористическое движение// Общее
дело. Женева, 1880; Откровение в грозе и буре. История возникновения
Апокалипсиса. М., 1907; Христос. Небесные вехи земной истории человечества.
М., 1927: Повести моей жизни. М., 1917—1918. Т. 1--Ч. Лит.: Куковская Л. Н. Н. А.
Морозов. М., 1912; Морозова К. Н. А. Морозов. М.-—Л., 1944. |
|
Моррис
Чарльз |
МОРРИС
(Morris) Чарльз (1901-1979) - американский философ. Доктор философии
(Чикагский университет, 1925). Основные сочинения: "Шесть теорий разума"
(1932), "Логический позитивизм, прагматизм и научный эмпиризм. Сборник
статей" (1937), "Основы теории знаков" (1938), "Пути жизни"
(1942), "Знаки, язык и поведение" (1946), "Открытое Я"
(1948), "Разнообразие человеческих ценностей" (1958),
"Обозначение и смысл. Изучение отношений знаков и ценностей" (1964)
и др. М. утверждал, что разнообразные знаковые системы выступают существенно
значимыми основаниями любых цивилизаций людей. Вне контекста реконструкции той
роли, которую исполняют совокупности знаков в общественной жизни, по М.,
немыслимо какое-либо адекватное постижение сути человеческого разума как такового.
Традиционные, по классификации М., подходы к трактовке разума - теории: разума
как субстанции (Платон, Аристотель, Декарт и др.); разума как процесса (Гегель,
Брэдли и др.); разума как отношения (Юм, Мах, Рассел и др.); разума как
прагматической функции (Шопенгауэр, Ницше, большинство представителей школы
прагматизма и др.); разума как интенционального акта (Брентано, Мур, Гуссерль
и др.) - М. предлагал дополнить знаковой концепцией. Исходя из предположения
о том, что унификация результатов одной из ипостасей человеческого мышления -
научного знания - осуществляется в границах процесса, именуемого М. "семиозисом",
предложил принципиально нетрадиционное истолкование реального содержания и
эвристического потенциала семиотики как специфической научной дисциплины. В
проблемное поле семиотики М. предложил включить: те предметы и явления
(посредники), которые функционируют как знаки, или "знаковые проводники";
те предметы и явления, к которым знаки относятся, или "десигнаты";
воздействие, оказываемое знаком на истолкователя (интерпретатора), вследствие
которого обозначаемая вещь становится неотъемлемо сопряженной с этим знаком
(суть самим этим знаком) для последнего; самого интерпретатора (истолкователя)
как такового. В абстрактной форме М. определил это взаимодействие следующим
образом: "знаковый проводник" есть для толкуемого истолкователем
"определенный Знак" в той мере и степени, в какой толкуемое истолкователем
обозначает (интерпретирует, осознает) десигнат вследствие присутствия знакового
проводника. Семиозис предстает у М. процедурой "осознания-посредством-чего-то".
Исследуя в каждом отдельном случае диадические репертуары взаимозависимости и
взаимодействия трех элементов триады ("знаковый проводник",
"десигнат" и "толкователь"), семиотика выступает, таким образом,
в трех своих ракурсах: как синтаксис (изучающий отношения знаков между
собой); как семантика (изучающая отношения знаков с обозначаемыми ими
предметами и явлениями); как прагматика (изучающая отношения знаков и их
интерпретаторов). По М., интерпретатор знака - это определенный организм,
интерпретируемое им - одеяния того органического существа, которые (при помощи
знаковых проводников) исполняют роль отсутствующих предметов в тех проблематических
ситуациях, в которых эти предметы якобы присутствуют. Указанный
"организм" таким путем обретает способность постигать интересующие его
характеристики отсутствующих предметов и явлений, а также ненаблюдаемые параметры
наличных объектов. В целостном семиотическом "развороте" язык, согласно
концепции М., предстает интерсубъективной коллекцией знаковых проводников, использование
которых обусловлено сопряженным набором фиксированных процедур синтаксиса, семантики
и прагматики. В духе современной ему интеллектуальной моды М. предложил содержательную
интерпретацию категории "знак" в стилистике объяснительной парадигмы
дисциплин, изучающих поведение людей: "Если некоторое А направляет поведение
к определенной цели посредством способа, схожего с тем, как это делает
некоторое В, как если бы В было наблюдаемым, тогда А - это знак".
Обнаружив пять главных видов знаков (знаки-идентификаторы - вопрос
"где", знаки-десигнаторы - вопрос "что такое",
прескриптивные знаки - вопрос "как", оценочные знаки - вопрос
"почему", знаки систематизации - формирующие отношения толкователя
с иными знаками), М. сформулировал подходы к пониманию категории "дискурс",
а также посредством комбинирования разнообразных способов использования и
обозначения самих знаков выявил 16 типов дискурса (научный, мифический,
технологический, логико-математический, фантастический, поэтический,
политический, теоретический, легальный, моральный, религиозный, грамматический,
космологический, критический, пропагандистский, метафизический), объемлющих в
своей совокупности проблемное поле семиотики в целом как научной дисциплины,
изучающей язык. Установки семиотики, по убеждению М., не метафизичны и
релятивны, они формируют упорядоченное пространство в безграничной совокупности
конкретных дискурсивных форм. Постижение культурного потенциала в модусе
универсалий культуры осуществимо, с точки зрения М., для личности тем успешнее,
чем в большей степени данная личность ориентирована на реконструкцию именно
знакового ресурса культуры, именно знаковых феноменов в парадигме семиотических
подходов. Только обладая внутренней готовностью к адекватному истолкованию
обрушиваемых обществом на человека массивов знаково организованной информации,
только располагая иммунитетом против знаков, ориентированных на манипулирование
людьми, личность, по мнению М., может претендовать на сколько-нибудь
эффективное сохранение собственного автономного "я". |
|
Мосс
Марсель |
MOCC (Mauss) Марсель (1872—1950) — фр.
социолог и социальный антрополог. Заведовал кафедрой истории религий
нецивилизованных народов Высшей школы практических исследований (с 1900),
проф. социологии в Коллеж де Франс (с 1931). Образование получил в Бордоском
ун-те. М. был племянником, учеником и сотрудником Э. Дюркгейма, активным
приверженцем дюркгеймовской социологической школы. После смерти основателя
школы он руководил ею в качестве главного редактора жур. «L'Annee
sociologique» (1925— 1927). В политическом плане М. был сторонником
реформистского социализма. Будучи в целом последователем Дюркгейма, М. тем не
менее отказался от антипсихологизма своего учителя, стремясь в своих
исследованиях к синтезу социологического и психологического подходов в
изучении человека. Он подчеркивал важность исследования «целостного человека»
в единстве его социальных, психических и биологических свойств. В отличие от
Дюркгейма, М. не был склонен к разработке универсальных теорий,
сосредоточившись гл. обр. на структурно-функциональном и
сравнительно-историческом исследованиях конкретных фактов в рамках конкретных
социальных систем. Главная работа М., ставшая классической, — «Опыт о даре.
Форма и основание обмена в архаических обществах» (1925); в ней он на
огромном историко-культурном материале обосновывает ключевое значение даров
как универсальной формы обмена до развития товарно-денежных отношений. Дары,
по М., формально добровольны, реально обязательны; давать, брать и возвращать
дар — это обязанности, нарушение которых влечет за собой социальные санкции.
В этом произведении М. выдвинул идею «целостных социальных фактов»:
ориентацию на комплексное исследование фактов и выявление наиболее фундаментальных
из них, пронизывающих все стороны социальной жизни и выступающих одновременно
как экономические, юридические, религиозные и т.д. Большое научное значение
имели и др. исследования М., в частности «О некоторых первобытных формах
классификации» (1903, в соавт. с Дюркгеймом), «Опыт о сезонных вариациях в
эскимосских обществах» (1906, при участии А. Беша), «Об одной категории
человеческого духа: понятие личности, понятие «Я» (1938) и др. В области
общей социологической теории идеи М., особенно идея «целостных социальных
фактов», оказали определенное воздействие на труды Г.Д. Гуревича и К.
Леви-Строса. Работы М. и его преподавательская деятельность повлияли на
развитие различных отраслей социального знания, в частности этнологии,
фольклористики, исторической психологии, индологии и др. Общества. Обмен. Личность // Труды по
социальной антропологии. М., 1996; Социологическая оценка большевизма //
Новое и старое в теоретической социологии. М., 1999. Кн. 1; Manuel
d'ethnographie. Paris, 1947; Sociologie et anthropologie. Paris, 1950;
Deuvres. Paris, 1968—1969. Vol. 1—3. |
|
Мотрошилова
Неля Васильевна |
МОТРОШИЛОВА Неля Васильевна (р. 1934) —
специалист в области истории западноевропейской философии, теории познания:
доктор филос. наук, проф. Окончила филос. факультет МГУ (1956). С 1959 — в
Ин-те философии АН СССР (РАН), в настоящее время зав. отделом истории
философии. Ответственный редактор «Историко-философского ежегодника», ряда
др. изданий, среди которых «Социальная природа познания: теоретические
предпосылки и проблемы» (М., 1979): «Studien zur Geschichte der westlichen
Philosophie» (Frankfurt am Main, 1986); «Философия Мартина Хайдеггера и
современность» (М., 1991). Внесла важный вклад в исследование
западноевропейской философии Нового времени и 20 в. В области нем.
классической философии ее внимание сосредоточено на философии И. Канта и
Г.В.Ф. Гегеля (в кан-товедении: теория познания Канта, философия права,
учение Канта о свободе; в гегелеведении: проблемы системности у Гегеля,
система категорий «Науки логики» как логики науки, социальная философия
Гегеля — философия права, свободы, гражданского общества, специфика
гегелевской феноменологии). В исследованиях М. феноменологии и
экзистенциализма на первый план выступают: концепция «чистого сознания» Э.
Гуссерля как филос. модель, содержащая объединяющую конструкцию существенных
черт сознания и предлагающая методы их раздельного анализа («чистое
созерцание» и описание сущностей). Обращается внимание на следующие черты:
сознание — бесконечный поток, разделенный на целостные части (феномены),
направленный на предмет (интенциональный), содержащий пересечения предметных
аспектов (ноэматических) и относящихся к различным свойствам актов
(поэтических), содержащий «смыслодающие» функции, «чистые сущности» как
«чистые возможности», приобретающий «временные» и «бытийственные»
(онтологические) измерения, конституирующие такие целостности, как «мир»,
«природа», «бытие», «субъект», «чистое Я», «интерсубъективность». В последние годы М. занимается детальным
анализом 2-го тома «Логических исследований» Гуссерля. Еще в 1960-е гг. М.
начала разрабатывать концепцию социально-исторической обусловленности
познания, которая в 1980—1990-е гг. была дополнена проблемами развития
философии и социологии, мировой цивилизации, исследованием социально-исторических
корней нем. классической философии под углом зрения понятий «цивилизация»,
«эпоха», «историческая ситуация»; анализом роли «официального» и
«неофициального» филос. сообщества в развитии философии и др. В 1980—1990-х
гг. начато и продолжается исследование истории рус. философии, особенно
феноменологической и экзистенциальной (Л. Шестов, Г.Г. Шпет, Б. Яковенко);
исследуется перекличка филос. идей России и Запада в кон. 19 — нач. и кон. 20
в. Ряд исследований М. посвящен новым и
новейшим течениям в зап. философии, их представителям («филос. портреты» Ю.
Хабермаса, В. Хесле и др.). В последнее время под руководством М. подготовлен
и опубликован четырехтомный учебник «История философии: Запад — Россия —
Восток» (1994—1998), в котором в едином комплексе проанализирована история
философии различных эпох, стран и регионов. М. — автор глав этого учебника,
посвященных антич. философии, философии Нового времени (великие философы 17
в.; нем. философы 18—19 вв.), рус. философии «серебряного века», зап. философии
20 в. М. — руководитель и один из исполнителей
проекта двуязычного, нем.-рус, издания собр. соч. Канта (вышли в свет I и III
т.), а также проекта «Философия Ф. Ницше в России», в рамках которого
выполнено детальное текстологическое исследование работы «По ту сторону добра
и зла»; разработаны темы «Первые ницшеведческие исследования в России» и «В.
Соловьев и Ф. Ницше». Принципы и противоречия
феноменологической философии. М., 1968; Познание и общество. Из истории
философии XVII—XVIII вв. М., 1969; Гуссерль и Кант: проблема
«трансцендентальной философии» // Философия Канта и современность. М., 1974;
Наука и ученые в условиях современного капитализма. М., 1976; Истина и
социально-исторический процесс познания. М., 1977; К проблеме научной
обоснованности норм // Вопросы философии. 1978. № 7; Учение о человеке в
философии эпохи ранних буржуазных революций // Философия эпохи ранних
буржуазных революций. М., 1983; Путь Гегеля к «Науке логики». М., 1984;
Современное исследование философии Гегеля: новые тексты и проблемы // Вопросы
философии. 1984. № 7; Ориентации новой личности и их выражение в философии
человека XVII столетия // Историко-философский ежегодник. 1986. М., 1986;
Диалектика системности и системность диалектики в «Науке логики» Гегеля //
Философия Гегеля. Проблемы диалектики. М., 1987; Социально-исторические корни
немецкой классической философии. М., 1990; Рождение и развитие философских
идей. М., 1991; Драма жизни, идей и грехопадения Мартина Хайдеггера //
Квинтэссенция. 1992; Парабола жизни Льва Шес-това // Вопросы философии. 1992.
№ 1; История философии: Запад — Россия — Восток. М., 1994-1998. Т. I, II,
III, IV; Marcuses Utopie der Antigesellschaft (в соавт. с Ю.А. Замошки-ным). Berlin, 1971; Freiheit und Vernunft // Weiner
Jahrbuch fur Philosophic 1991. BdXXlII; Delineation ofGegenstendlichkeiten in
Edmund Husserl's 2 v. «Logical Investigation» // Analecta Husserliana. 1992. Vol.
XXVII. |
|
Мо-цзы
(Мо Ди) |
Мо-цзы (Мо Ди) (ок. 475- 495)
древнекитайский философ, выступал против Конфуция, превосходящий его по
богатству и глубине мысли. Простоту и умеренность (воздержание) трактовал в
христ. смысле, как всеобщую любовь ко всем людям без различий. Его учение
содержит социалистические элементы, однако не в современном
(коммунистическом) толковании. Взгляды Мо-цзы изложены в
«Трактате учителя Мо» («Мо-цзы»), созданном его учениками. Главная цель,
пронизывающая концепцию Мо-цзы, - это принцип «всеобщей любви». Всеобщая
любовь понимается как любовь всех ко всем. Эта любовь, по мнению Мо-цзы,
может разрешить любые конфликты как в экономической, так и в политической
сферах. Он видел в осуществлении этого принципа выход из политического и
экономического хаоса. Кроме того, критикуя конфуцианство, Мо-цзы выдвинул и
другие принципы и положения своей этической доктрины. Он подчеркивал важность
уважения талантов, самоуважения, ненападения. Он полагал, что все талантливые
люди должны иметь возможность управлять страной вне зависимости от
происхождения. Выступал против войн и считал, что «нельзя нападать на
соседние царства, убивать народ, захватывать скот и грабить богатства».
Мо-цзы также выступал против конфуцианского положения, что «воля небес»
определяет судьбу человека, и считал, что люди перестанут бороться за свое
счастье, если поверят в судьбу, которая от них не зависит. Не признавал
конфуцианского положения, что воспитание народа должно осуществляться
посредством музыки и ритуала. В то же время Мо-цзы не отрицал «роли небес» в
жизни человека, полагая, что Бог наказывает или вознаграждает людей в той
мере, в какой они следуют принципу всеобщей любви. В учении о познании Мо-цзы стоял
на точке зрения, что истинные знания - это те, что получены в процессе
практической деятельности. Он также выступал против концепции «врожденного
знания». Мо-цзы - основатель направления
моизма. Монеты развивали идеи своего учителя с позиций наивного материализма.
Они разрабатывали в основном проблемы логики и теории познания. По их мнению,
вещи, существующие вокруг нас, имеют объективный характер и независимы от
нашего сознания. Человеческое сознание возникает в результате деятельности
органов чувств и мышления. |
|
Мочульский
Константин Васильевич |
МОЧУЛЬСКИЙ Константин Васильевич
(28.01 (9.02). 1892, Одесса — 21.03. 1948, Камбо, Франция) — литературовед,
философ. Род. в семье проф. Новороссийского (Одесского) ун-та В. Н.
Мочульского, автора исследования о рус. духовных стихах. Окончил в 1914 г.
Петербургский ун-т по романо-германскому отд. историко-филологического ф-та.
В 1916 г. сдал экзамен на степень магистра и был избран приват-доцентом Петроградского
ун-та. В 1918 г. состоял доцентом Новороссийского (Одесского) ун-та. В 1920
г. эмигрировал в Болгарию, где до нач. 1922 г. был штатным доцентом
Софийского ун-та. В 1922 г. переехал в Париж. Преподавал на рус. курсах в
Сорбонне, где читал с 1924 по 1941 г. циклы лекций по истории рус. литературы
и рус. мысли XIX и XX вв. С 1934 г. преподавал в
Свято-Сергиевском богословском православном ин-те историю западноевропейских
литератур, а в последние годы жизни — историю зап. церкви, лат. и славянский
языки. В сер. 30-х гг. вступил в Братство Св. Софии, созданное по инициативе
А. В. Карташева, Булгакова, Г. Н. Трубецкого, Н. О. Лосского, П. Б. Струве,
Новгородцева в Праге и в Париже в 1924—1925 гг. Испытал глубокое влияние
Булгакова, оказался весьма восприимчивым к софиологической проблематике. В
кн. "Владимир Соловьев. Жизнь и учение" (Париж, 1936) считает софиологию
"живым сердцем всего богословствования Соловьева, систематической
основой его веры и жизни" и резко отрицательно относится к теократическому
периоду творчества Соловьева. В сентябре 1935 г. М. входит в созданное
матерью Марией (Скобцовой) объединение "Православное дело",
возникшее в недрах РСХД для социального христианского служения — организации
"социальной работы" в больницах, столовых, общежитиях,
воскресно-четверговых школах, избирается заместителем председательницы. После
войны это объединение упрекали запросоветскую ориентацию. М. — автор ряда
исследований о рус. писателях XIX—XX вв. Их отличает глубина,
обстоятельность, умение тонко передать особенности художественного мышления
того или иного писателя. По отзыву епископа Кассиана (С. С. Безобразова),
"у него было сердце нежное до хрупкости и исключительный дар любви.
Ловкие люди умели его эксплуатировать, и он часто был неспособен оказать
отпор... Чарующая тонкость его духовного облика — не нашей эпохи. Она
относится к тому же наследию духа и в наше время грубой силы звучит каким-то
анахронизмом. Но в этих анахронизмах светит вечная правда. Разрывая рамки
времени, она вторгается в нашу жизнь как благое упование и залог
спасения". Соч.: Духовный путь Гоголя.
Париж, 1934 (2-е изд. — Париж, 1976); Владимир Соловьев. Жизнь и учение.
Париж, 1936 (2-е изд. — Париж, 1951); Великие русские писатели XIX в. Париж, 1939; Достоевский.
Жизнь и творчество. Париж, 1947 (2-е изд. — Париж, 1980); Александр Блок.
Париж, 1948; Андрей Белый. Париж, 1955; Валерий Брюсов. Париж, 1962; Гоголь.
Соловьев. Достоевский / Сост. и послесл. В. М. Толмачева. М., 1995. Лит.: En. Кассиан (Безобр.азов). Родословие духа (Памяти К. В.
М.) //Православная мысль. 1949. № 7; Митр. Евлогий (Георгиевский). Путь моей
жизни. Париж, 1947 (2-е изд. — М., 1994); Яновский В. С. Поля Елисейские.
Книга памяти. Нью-Йорк, 1983 (2-е изд — Спб., 1993). |
|
Музоний
Руф Гай |
МУЗОНИЙ РУФ ГАЙ (Caius Musonius Rufus)
(1 в. н. э.), представитель
Поздней Стой, учитель Эпиктета. Родом из этрусского города Вольсинии, из
сословия всадников (Tac.
Hist. Ill 81; Suda.
s.
ν.
Μουσώνιος Καπίτωνος).
Год рождения не позднее 30 н. э., т. к. при имп. Нероне М. уже приобрел
большую известность в Риме (Tac.
Ann. XV 71). Вероятно, в 60-е вокруг М. начал складываться кружок слушателей.
Когда в 65 Нерон, обвинив М. в причастности к заговору, сослал его на остров
Гиар (Кикладские о-ва) (Dio Cass. LXII 27, 4), многие приезжали туда
послушать M.
(Philostr.
V. Apoll.
VII 16). Сообщение Филострата (V. Apoll. V 19), что в 66/67 М. был на каторжных
работах на Истме, вряд ли достоверно/Возвратившись при имп. Гальбе (в 69), М.
возобновил лекции, которые читал по-гречески. При имп. Веспасиане М. вновь
был изгнан, но возвращен симпатизировавшим ему имп. Титом (Themist.
XIII 173 с), вероятно, в 79. Год смерти неизвестен (предположительно, ок. 100
н. э.). Сочинения. Лекции М.
дошли до нас (отрывочно) в записи некоего Луция, который, по предположению
Хензе (р. XV), издал их в нач. 2 в. н. э., уже после смерти М. Не
сохранившееся сочинение «Записки Музония-философа» (возможно, тождественное
лекциям М.), ошибочно приписанное Судой (s. ν. Πωλίων)
Азинию Поллиону, скорее всего, принадлежало ритору и философу Валерию
Поллиону, одному из воспитателей имп. Марка Аврелия (Hense, p. XII). Основные
тексты (записи Луция), сохранившиеся у Стобея (fr. 1-21 Hense) представляют собою
тематически цельные, в большинстве своем снабженные заголовками рассуждения,
посвященные традиционным проблемам практической этики (т. н. паренетические
топы): о добродетели, воспитании, отношении к жизненным трудностям, о
философии как средству исправления души и т. п. Мелкие фрагменты (22-53, у
Стобея, Эпиктета, Авла Геллия) содержат, как правило, отдельные мысли или
высказывания М. По содержанию и стилю лекции М. соответствуют характерному для
Поздней Стой жанру философского увещания (диатрибы). Вероятно, они читались
по определенному плану (его попытался реконструировать Хензе, которому
следует Лутц), - от общей пропедевтики к частным вопросам. Учение М. в ряде
пунктов близко к программе Секстин (и нельзя исключить влияния на М. аскетики
платоно-пифагорейского типа), а основная тематика рассуждений близко
напоминает некоторые тексты Сенеки и Гиерокла-стоика. Логика и теория
познания имеют значение для тренировки мышления, умения давать точные формулировки
и для образования верных нравственных понятий; однако злоупотреблять
доказательствами не следует: они должны быть не разнообразными, а простыми и
ясными (Epict. Diss. I 7, 9; 32; fr. 1 «О том, что для одного вопроса не
требуется много доказательств»). Физика должна показывать природную связь
явлений и целесообразность мироустроения (fr. 38-42). Из этики
М. постоянно пересказывает лишь ключевую тему: только добродетель - благо, к
которому следует стремиться, только порок - зло, которого следует избегать,
все прочее — безразлично. Теоретическая задача философии состоит в том, чтобы
объяснить, что «смерть, страдание, бедность и тому подобное, — не зло, а
жизнь, удовольствие, богатство и тому подобное - не благо» (fr. 1, р. 3, 20 ел. Hense, ср. fr. 6 «Об аскезе»). Однако
в силу своих практико-аскетических интересов именно «безразличным» вещам М.
уделяет повышенное внимание. От природы человек имеет склонность (οίκβίωσις)
к добродетели, равно свойственную как мужчинам, так и женщинам (fr. 9 «О том, что и
женщинам подобает философствовать», р. 9, 9 ср. frg. 2, р. 7, 8 Н.).
Традиционные добродетели - здравомыслие, справедливость, умеренность,
мужество (fr.
4 «О том, одинаково ли нужно воспитывать дочерей и сыновей», р. 14, 6 ел.
Н.). Благодаря им человек способен жить правильно, если избавится от
ошибочных представлений (fr.
2; 11). Сила их такова, что человек с детства нуждается в руководстве:
философия - по преимуществу искусство исправления души (Plut. De coh. ira 2, 453 d = fr. 36).
Философствовать значит «выяснять с помощью разума, что и как подобает
совершать, а затем осуществлять это на деле» (fr. 14 «Препятствует
ли брак философствованию», р. 76,14 ел.). На вопрос, что важнее для
воспитания добродетели, - fr.
5 «О том, что сильнее, - практика (εθος) или теория (λόγος)»,
- ответ таков: хотя логически теория предшествует практике, последняя
«потенциально сильнее (δυνάμει nporepeî)
теории, поскольку приучает человека к действию лучше, чем теория» (р. 22,1
ел. Н.). «Добродетель - не только теоретическое знание, но и практическое
умение - как медицина или музыка» (fr. 6, р. 22, 6 ел. Н.). Основное место в
учении М. занимает поэтому упражнение, «аскеза», представленная подчеркнуто
практически. Упражнять следует в первую очередь душу, но обязательно и тело,
поскольку в человеке они связаны неразрывно (fr. 6 «Об аскезе»; fr. 7 «О том, что
следует презирать трудности»). Теоретическая аскеза сводится к традиционным
школьным правилам. Тому, кто хочет жить добродетельно, нужно постоянно
заботиться о своем душевном здоровье (Plut. De coh. ira 2,453 d = fr. 36), избегать
наслаждений, презирать мнимые блага, соблюдать умеренность (fr. 6), чувствовать себя
в мире как дома (fr.
9 «О том, что изгнание - не зло»), не бояться смерти (fr. 43), не причинять
зла другому (fr.
10 «Обвиняет ли философ кого-либо в оскорблении») и в конечном счете во всем
уподобляться богу (Plut.
De vit.
aer.
7, 830 b
= fr.
37; возможно, пифагорейско-платоновский мотив). Но реальная добродетель -
плод не столько научения, сколько привычки и упражнения: рассудочное усвоение
догм не может заменить практического подражания. Философ может приучать
новичков к философии личным примером, занимаясь физическим, особенно сельским
трудом (fr.
11 «На какие средства подобает существовать философу»). Реальное философствование
есть воспитание добродетельных привычек: то φιλοσοφείν καλοκαγαθίας έπιτήδευσις (fr. 8 «О том, что и царям подобает
философствовать», р. 38, 16 Н.). В числе практических рекомендаций
(обязанностей по отношению к самому себе и другим в повседневной жизни) М.
призывает соблюдать умеренность в любовных утехах, которые уместны только в
браке, а брак есть основа воспроизведения жизни и опора общества (fr. 12-13 ab), заводить и
воспитывать как можно больше детей, чтобы распространять семена добродетели (fr. 15 а), почитать
родителей (fr.
16), умереннно питаться простой (лучше растительной) пищей (fr. 18 ab), содержать в
порядке жилище, домашнюю утварь и одежду (fr. 19-20), заботиться
о чистоте и надлежащем виде волос (fr. 21). Ученики и влияние. В
разные годы М. слушали римляне Рубеллий Плавт (погибший при Нероне - Tac. Ann. XIV 59), Гай
Миниций Фундан, консул 107 года (Plut. De coh. ira 2, 453 d), Плиний Младший
(Ер. III 11, 5), греки Артемидор, зять Музония (Ibid.), Афинодот, учитель
Фронтона, Эвфрат (Epict.
Diss.
IV 8, 17), Дион, Тимократ (Front.
Ad Ver.
I 1). Самый известный ученик M.
- Эпиктет. В целом, М. оказал существенное влияние на развитие
позднестоической этики (Сенека, Марк Аврелий, Гиерокл), а также на
раннехристианскую моралистику (ср., в частности, «Педагог» Климента
Александрийского (напр., III 6)). Соч.: С MusoniiRufi Reliquiae. Ed. О. Hense. Lpz.,
1905; Lutz С. Ε. Musonius Rufus, The Roman Socrates. N. Hav.,
1947 (с англ. пер. и комм.); JaguA. Musonius
Rufus. Entretiens et fragments. Introd., trad, et commentaire. Hldh.; Ν. Υ., 1979; Andorlini L, Laurent! R. Corpus
dei papiri filosofici Greci e Latini. Vol. 1. Fir., 1992, p. 480-492. Лит.: Gallinari L. Il pensiero
pedagogico-morale di Musonio Rufo. R., 1959; Van Geytenbeek A. C. Musonius
Rufus and Greek Diatribe. Assen, 1963; Laurenti R. Musonio, maestro di
Epitteto, - ANRWII 36, 3, 1989, 2105-2146. |
|
Мунье
Эмманюэль |
МУНЬЕ (Mounier) Эмманюэль (род. 1 апр. 1905, Гренобль – ум. 22
марта 1950, Париж) – франц. философ; представитель персонализма. В 1932
основал влиятельный журнал «Esprit», которым
руководил до самой смерти (за исключением 1941 – 1944, когда журнал был
запрещен оккупационными властями, а Мунье арестован). Осн. произв.: «Revolution
personnaliste et communautaire» 1935; «Manifest au service de
personnalisme», 1936; «L'affrontement chretien», 1945; «Traite du charactere»,
1946; «Introduction aux existentialismes», 1947; «Le personnalisme», 1950. В основе учения М. лежит признание
абсолютной ценности личности, находящейся в постоянном творческом
самоосуществлении; личность первична по отношению к любым социальным
системам, материальной и экономической необходимости. Непосредственное
влияние на формирование взглядов М. оказала кризисная ситуация в период между
двумя войнами, которую он расценил как общий кризис человека и цивилизации —
одновременно экономический и духовный — и выход из которого видел в
преобразовании мира на личностных началах. Опираясь на традицию философии
субъективности, идущей от Сократа и Августина, и впитывая в себя
антропологические идеи рационализма (Г.В. Лейбниц, И. Кант, К. Маркс) и
иррационализма (М. Шелер, А. Бергсон, Н.А. Бердяев), католик М. стремился
создать общецивилизационное миропонимание, в центре которого находится
человек, вовлеченный в судьбу мира, т.е. осмысленно и ответственно
действующий в мире, и в то же время трансцендирующий — постоянно
преодолевающий себя и мир в движении к абсолютному началу (Богу),
несоизмеримому с человеком и вместе с тем задающему ему подлинные жизненные
ориентиры. Способом коренного изменения цивилизации М. признает революцию —
одновременно социально-экономическую и духовную, при этом более всего
полагается на «внутреннюю революцию» человека — на преобразование им своего
внутреннего мира, на усвоение христианских ценностей. Основополагающие
понятия персонализма М.: личность, творчество, трансценденция, межличностное
общение и др. — в значительной степени определяются через художественное
творчество и искусство. Идеи персонализма М. получили широкое
распространение. Персоналистски ориентированные филос. концепции существуют
во многих странах: Италии, Швейцарии, Польше, Венгрии, в Скандинавском
регионе, Латинской Америке. Идеи М. стали теоретической основой различных
направлений социальной теологии: теологии труда, теологии личности, теологии
революции, теологии освобождения. Персоналистская версия христианства
способствовала переориентации официальной доктрины современного католицизма.
Многие идеи персонализма входят в мировоззренческий багаж нынешнего главы
римско-католической церкви Иоанна Павла II. Надежда отчаявшихся. М., 1995; Манифест
персонализма. М., 1999; Oeuvres. Paris, 1961-1962. Vol. I-IV; Эстетика
французского персонализма. М., 1981; Вдовина И.С. Французский персонализм.
М., 1990. |
|
Мур
Джордж Эдуард |
МУР (Moore) Джорд Эдуард (род. 4 нояб. 1873, Лондон – ум. 24
окт. 1958, Кембридж) – англ, философ,
представитель неореализма; с 1925 по 1939 – профессор в Кембридже, с 1940 по
1944 читал лекции в США (по приглашению). Главный редактор жур. «Mind» (1921—1947). Мур
исследовал сознание, ощущение и чувственные качества, опираясь при этом на
скептицизм и эмпиризм Юма. Основные
сочинения: "Природа суждения" (1899), "Принципы этики"
(1903), "Опровержение идеализма" (1903), "Природа и реальность
объектов восприятия" (1905-1906), "Природа чувственных данных"
(1913), "Некоторые суждения о восприятии" (1917), "Философские
исследования" (1922), "В защиту здравого смысла" (1925),
"Доказательство внешнего мира" (1939), "Ответ моим критикам"
(1942) и др. М.
полемизировал с идеями английского абсолютного идеализма и берклинианства, разрабатывал
оригинальные этические доктрины. "Я не думаю, - писал М., - что
окружающий мир или наука когда-либо ставили передо мной философские проблемы.
Такими проблемами были вещи, которые говорили о мире или естествознании
другие философы". М. стоял на позициях плюралистической онтологии в
противовес идеалистическому монизму, на принципах принципиальной
познаваемости окружающей реальности, постулируя антипсихологизм в эпистемологии
и логике. Истинность идеалистического лозунга "esse est percipi"
(лат. "существовать - значит быть воспринимаемым"; ср. "реальность
духовна") М. усматривал лишь в том, что свойства, составляющие весь наш
мир и отличные от свойства "быть воспринимаемым", не могут существовать,
не будучи в свою очередь воспринимаемыми. По М., высказывание "существовать
- значит быть воспринимаемым" не только аналитическое и посему не могущее
быть обосновано, оно также и противоречиво. (Согласно М., "принцип органических
единств используют главным образом для оправдания возможности одновременно утверждать
два противоречащих друг другу суждения там, где в этом возникает нужда. В
данном вопросе, как и в других, главной заслугой Гегеля перед философией было
возведение ошибки в принцип и изобретение для нее названия.) Согласно М.,
попытка сторонников философского идеализма фундировать данную идею тезисом,
что объект опыта немыслим без наличия субъекта, неверна хотя бы потому, что
"объект и субъект" (например, желтый цвет и ощущение желтизны) совершенно
различны. Из "esse est percipi" следует как то, что опыт и его объекты
тождественны, так и то, что они различны: желтый цвет и ощущение желтизны аналитически
связаны и по существу идентичны, и в то же время они различны, ибо можно
осмысленно говорить об их отношении друг к другу. Философы, по мысли М., не в
состоянии учитывать подобного различия (см. Differance), ибо язык не имеет
общих имен для таких объектов, как красное или горькое, а также и потому, что
мы склонны "скорее воспринимать мир через посредство сознания, а не
рассматривать само сознание". С точки зрения М., понятия, с одной стороны,
не могут трактоваться ни как содержание, ни как фрагмент, ни как состояние сознания,
с другой же - они не есть продукт абстрагирующей активности сознания. Физические
факты, по мысли М., не зависят - причинно или логически - от фактов сознания:
"нет каких-либо здравых оснований предполагать, что вообще существует
какой-либо такой факт сознания, без наличия которого не мог бы иметь место факт,
что этот камин находится в настоящий момент ближе к моему телу, чем та этажерка...
нет никаких оснований предполагать, что существует какой-то факт сознания, о
котором можно было бы сказать, - если бы этот факт не имел места, то земля не
существовала бы уже много лет". Понятие (суть "ни ментальный факт,
ни какая-либо из частей ментального факта") - автономный и неизменный
объект мышления, последняя реальность. Истинность суждений не коррелируема и
не определима их отношением к реальности, истина - всего лишь характеризует отношение
понятий в суждении, постигаемое интуитивно. "Обращение к фактам
бесполезно" - это высказывание М. выступило впоследствии девизом
"концептуального реализма" Рассела - Витгенштейна. В статье
"Опровержение идеализма" (1903) М. анализировал ощущение, различая
две его стороны - "сознание" и "объект": "Ощущение
включает сознание и объект, независимый от сознания". При этом "сознание",
по М., находится в некотором нераскрываемом отношении "осведомленности"
к "объекту". Вместе с тем "независимое "существование объекта
в гносеологической схеме М. является лишь видимостью, ибо объект здесь выступает
лишь в акте ощущения, его реальность постулируется лишь на основе
"здравого смысла", а не в качестве характеристики объективной действительности.
С точки зрения М., "мы знаем, что имеются и были во Вселенной...
материальные объекты и акты сознания... - огромное количество и тех и
других... что многие материальные объекты существуют, когда мы не осознаем
их". Истинность этих предложений неявно заложена в общем способе нашего мышления;
она предполагается многими вещами, относительно которых мы полагаем, что мы
их знаем. (По М., объект ложного убеждения и сопряженное суждение не могут
существовать как факт, иначе убеждение являлось бы истинным.) М.
абсолютизировал элементы непосредственности в познании, предвосхитил
возникновение неореалистической концепции "имманентности трансцендентного".
Идеи М. явились одним из источников лингвистической философии. Этическая
концепция М. носила индивидуалистический характер и основывалась на критике
"этического натурализма", рассматривающего "добро" как
объективное рациональное понятие. Добро и зло для М. - основополагающие
неопределимые этические категории, смысл которых постигается лишь с помощью
интуиции. Этические положения раскрывают эмоции говорящего, возбуждают эмоции
слушающего либо неявно выражают повеления. Отождествляя ценность и долг с
пользой, М. необходимо приходил к выводу, что моральная обязанность индивида
к осуществлению поступка в полном объеме проистекает из того, что именно данное
действие результируется в предельно возможной совокупности добра в универсуме.
Не создав завершенной философской системы, М. тем не менее выступил как один
из основателей "метаэтики". Principia
Ethica, Cambridge, 1903; Some Main Problems of Philosophy. London; New York,
1958; Philosophical studies. London, 1959; Philosophical papers. London; New
York, 1959.; Хилл Т.И. Современная теория познания. М., 1965;
Луканов Д. М. Гносеология американского «реализма». М., 1968; Богомолов А.С.
Английская буржуазная философия 20 в. М., 1973; The Philosophy of G.E. Moore.
Evanston, 1942; G.E. Moore. Essays in Retrospect. London, 1970. |
|
Муравьев Валериан
Николаевич |
МУРАВЬЕВ Валериан Николаевич
(28. 02. 1885—1932) — математик и философ, восприемник и интерпретатор идей и
проектов Федорова. Происходил из старинного дворянского, графского рода
Муравьевых. Его отец — Н. В. Муравьев, ученый-юрист, долгие годы занимал пост
министра юстиции при Николае II. По
окончании Императорского Александровского лицея М. до 1913 г. служил
сотрудником рус. посольств в Гааге, Париже, Белграде; во время 1-й мировой
войны — в центральном аппарате министерства иностранных дел, при Временном
правительстве заведовал отделом Балканских стран. Политически был близок
партии кадетов. Октябрьскую революцию первоначально воспринял как
национальную трагедию. Является одним из авторов сб. "Из глубины". В
1920 г. был приговорен к расстрелу, как участник т. наз. тактического московского
центра, но по личному ходатайству Троцкого приговор был отменен. После
освобождения М. служил в ряде советских учреждений, в т. ч. ученым секретарем
Центрального ин-та труда, возглавляемого А. К. Гастевым, где широко
пропагандировал новое "федоровское" понимание труда как осн.
средства в борьбе против слепых, разрушительных сил природы, в деле преображения
мира и человека. В 1930 г. после вторичного ареста был сослан в Нарым, где
скончался от тифа (по др. версии — Соловках). М. заимствовал не только
центральные федоровские идеи (воскрешение предков, регуляция природы), но и
отдельные его мысли, определения (превращение Земли в управляемый космический
корабль, строительство городов-кремлей я т. д.), однако
нравственно-религиозный пафос учения Федорова у него сменился верой в
технический прогресс, в непогрешимость и абсолютность человеческого разума.
Автор мн. философских трудов, он смог опубликовать лишь работу
"Овладение временем как основная задача организации труда" (М.,
1924) на собственные средства. Не вызвав широкого научного резонанса, она не
осталась незамеченной в отечественных g эмигрантских
философских кругах. Оригинальной в ней является постановка вечной философской
проблемы времени, его необратимости, однонаправленности. Время, по мнению М.,
не обладает абсолютной реальностью, а привязано с материи, оно есть
изменяющиеся отношения между вещами, движение и изменения в мире вещей.
Поскольку в его представлении это совокупность множественностей, состоящих, в
свою очередь, из определенных комбинаций элементов, к-рые могут быть
зафиксированы с помощью математических формул или др. символов, то вполне
возможно решение проблемы временной необратимости и управления временем через
восстановление комбинаций элементов вещей, отсюда — путь и к воскрешению
людей (сущность и индивидуальность для М. — также определенная комбинация
элементов). Т. обр., овладение временем оказывается тесно связанным с
возрастанием господства людей над материальными, природными процессами. Любая
деятельность по изменению природы обозначается М. как культурная
деятельность, а культура — как непрерывный процесс передачи из поколения в
поколение определенных "формул" для восстановления вещей. Чтобы
научиться овладевать временем, необходимо, по М., прежде всего преодолеть
разделение культуры на два типа: "символическую", в к-рую входят
все виды искусства, теоретические науки, знание в целом, способное
вырабатывать проекты и символы для возможных действий, и
"реальную", в к-рую входят все виды деятельности, реально изменяющие
мир. М. считает необходимым создание единой культуры нового типа с
организующей ролью разума, "сознательной волей человечества", где
не будет также разрыва между теорией и практикой. Возможность для создания
такого типа культуры М. видит в объединении человечества на основе общего
дела, организованного в виде проекта и выраженного системой математически
формул, фиксирующих действия как всего человечества в целом, так и каждого
отдельного участника этого грандиозного дела. Культурный идеал эпохи будет создаваться
на основе синтеза результатов науки и достижений искусства. Все это позволит
объединенному человечеству правильно организовать совокупность множеств
элементов, к-рые сопряжены друг с другом и со всей Вселенной, и осуществить
коренное преобразование всех основ жизни согласно идеалам разума. Тип нового
братского управления собой и миром М. называет "космократией",
"пантократией". Победу над смертью в конце концов одержит
"анастатика" — искусство воскрешения мертвых. В результате на смену
земной истории придет история солнечная, к-рая впоследствии в силу развития технического
прогресса и роста мощи объединенного человечества сменится историей космоса.
Архивный фонд М. содержит значительное количество еще не исследованных
философских и художественных произведений. Соч.: Овладение временем как
основная задача организации труда. М., 1924; Рев племени //Вехи. Из глубины.
М., 1991; Внутренний путь// Вопросы философии. 1992. № 1; Философские
заметки, афоризмы// Там же. Лит.: Сетницкий Я. А. В. Н. Муравьев
//Вселенское дело. Рига. 1934. № 2; Голинков Д. Л. Крушение антисоветского
подполья в СССР. М., 1978. Кн. 2; Hagemeister M. V. N. Muraviev //Nikolaj
Fedorov. Studien zu Leben, Werk und
Wirkung. München, 1989. |
|
Муравьев
Никита Михайлович |
МУРАВЬЕВ Никита Михайлович (19
(30). 07. 1796, Москва — 28. 04 (10. 05). 1843, с. Урик Иркутской губ.) —
декабрист, теоретик конституционализма. По окончании Московского ун-та М. был
определен (1812) на службу в Министерство юстиции. Участник заграничных
военных походов 1813—1814 гг., дослужился до капитана (1825). Один из
основателей "Союза спасения", член "Союза благоденствия",
член Верховной думы и глава "Северного общества" декабристов. Осужден
правительством к лишению чинов и дворянства и к ссылке в каторжные работы на
20 лет (в 1832 г. срок был сокращен до 10 лет). Осн. теоретический труд три
проекта Конституции, свидетельствующие об эволюции его социально-политических
воззрений (3-й проект был написан им уже после ареста, в 1826 г.). Исходя из
принципов естественного права и конституционализма, уже в преамбуле первого
варианта проекта конституции М. заявлял: "Нельзя допустить основанием
правительства произвол одного человека, невозможно согласиться, чтобы все
права находились на одной стороне, а все обязанности на другой. Слепое повиновение
может быть основано только на страхе и недостойно ни разумного повелителя, ни
разумных исполнителей. «Ставя себя выше законов, государи забыли, что они в
таком случае вне закона, — вне человечества!». Главным субъектом
общественно-исторической жизни и установления законов должен быть народ:
"Источник верховной власти есть народ, которому принадлежит исключительное
право делать основные постановления для самого себя". Одна из
центральных идей М. — наделение крестьян землей после упразднения крепостного
права. Частная собственность признается "священной" и
неприкосновенной. Развивая идеи разделения властей и федеративного устройства
государства, М. мыслил в качестве высшего представительного органа Народное
вече, состоящее из двух палат: Палаты народных представителей и Верховной
думы, представляющей регионы страны. Император получал статус
"верховного чиновника правительства" и должен был отчитываться
перед палатами. Суд признавался независимым. Большое внимание уделялось
правам и свободам граждан. "Свобода, — писал М., — заключается вовсе не
в том, чтобы иметь «возможность совершать все дозволенное законами, как полагал
Монтескье, а в том, чтобы иметь законы, соответствующие неотчуждаемому праву
человека на развитие его естественного капитала, т. е. совокупности его
физических и моральных сил. Всякий иной закон есть злоупотребление,
основанное на силе..." В проектах устанавливалось, что "все русские
равны перед законом", они имеют право "излагать свои мысли и
чувства невозбранно и сообщать оные посредством печати своим
соотечественникам"; заявлялась незыблемость принципов: "нет
преступления, нет наказания без закона" и "закон обратной силы не
имеет". Предполагалось уничтожение сословий, рекрутчины и военных
поселений. Соч.: Проект Конституции... //
Избр. социально-политические и филос. произв. декабристов. М., 1951. Т. I. С. 293—343; Дело Муравьева...// Восстание
декабристов. М.; Л., 1925. Т. 1. Лит.: Струве П. Муравьев и
Пестель // Новое время. 1993. № 51; Дружинин Η. Μ. Декабрист Никита Муравьев. М.,
1933; Вояк С. С. Исторические взгляды декабристов. М.; Л., 1958; Габов Г. И. Общественно-политические
и философские взгляды декабристов. М., 1954; Нечкина М. В. Движение
декабристов. М., 1955. Т. 1—2; Яхин Р. X. Политические и правовые взгляды декабристов
Северного общества. Казань, 1964; Егоров С. А. Политические и правовые
взгляды декабриста Никиты Муравьева. М., 1974. |
|
Муратов
Павел Павлович |
МУРАТОВ Павел Павлович (март
1881, Бобров Воронежской губ. — 5. 02. 1950, Уотерфорд, Ирландия) — писатель,
публицист, культуролог. Окончил петербургский Институт путей сообщения
(1903). Переехав в Москву, служил в библиотеке Московского ун-та помощником,
затем хранителем отдела изящных искусств и классических древностей
Румянцевского музея. Печатался с 1906 г. в газ. "Утро России",
журн. "Заря", "Старые голы", "Золотое руно",
"Аполлон", "Весы" как художественный критик. По эстетическим
пристрастиям М. — "классик"; от увлечения постимпрессионизмом ему
передался вкус к распознаванию предвечных форм, оценка пластических
возможностей фактуры, но не в отвлеченном плане, а применительно к
"теплому", "живому". Главной сферой интересов М. стало итал.
искусство: кн. очерков "Образы Италии" (М., 1911—1912. Т. 1—2),
принесшая автору широкое признание, сделала Италию для рус. символизма мифом
и перекрестком культурного смысла. Сила классического итал. искусства
обусловлена, по М., синтезом античных и христианских начал, "природной
латинской религией", символической активностью, не столько порожденной
христианством, сколько освобожденной им и "направленной к цели".
Параллельно с изучением итал. искусства у М. обостряется интерес к иконописи.
Он принимает участие в организации выставки рус. старины (1913), становится
одним из пионеров расчистки икон в Кремлевских соборах, предлагает принципы
накопления и систематизации иконографического материала (Древнерусская
живопись. М., 1914); написал 4 из 5 вып., посвященных допетровской иконописи,
6 тома изданной И. Э. Грабарем "Истории русской живописи" (М.,
1913). Трактуя икону преимущественно эстетически, М. видит в ней единство
зап. и вост. начал, а также проявление высшего художественного
аристократизма. С нач. 1914 г. М. — редактор журн. "София", затем
призывается в действующую армию. Революцию встретил в Севастополе, по возвращении
в Москву избирается в президиум Комитета по охране художественных и научных
сокровищ России (1918), сотрудничает в антибольшевистских журналах
("Народоправство" и др.). В 1922 г. выехал в командировку за рубеж,
откуда не вернулся. Жил в Германии, с 1924 г. — в Риме, с 1927 г. — в Париже.
Печатался в осн. органах эмиграции: "Последние новости",
"Звено", "Воля России", "Русская мысль",
"Современные записки:" и др. В Германии опубликовал роман
"Эгерия" (1922), во Франции трагикомедии "Приключения Дафниса
и Хлои" (1926), "Мавритания" (1927). В 1924 г. изд-во Гржебина
выпустило окончательную 3-томную редакцию "Образов Италии". С 1927
г. М. вошел в число сотрудников парижской газ. "Возрождение",
занялся политической журналистикой. Резкое неприятие левого крыла эмиграции
вызвала его неподписанная ст. "О дедушках и бабушках русской
революции" (1931). Перед 2-й мировой войной М. переехал в Англию,
последняя работа "Русские военные кампании 1944—1945" (1946)
написана им в соавторстве с дублинским коллекционером У. Э. Алленом. М.
явился воплощением "эстетизма 1910 года" (Г. В. Иванов). Он мало
внимателен к религиозной проблематике, рассматривает русскую идею в контексте
обще-зап. опыта. Революция, по его мнению, отбросила Россию в Азию. Η. Η. Берберова назвала яталофильски
окрашенный символизм М. "не декадентским, вечным". В цикле эссе
("Анти-искусство", 1924; "Искусство и народ", 1924; "Кинематограф",
1925) главной темой М. становится возможность преодоления кризиса культуры.
Новую культурологическую ситуацию он называет "пост-Европой" и
оценивает ее в плане конфликта между "человеком органическим" и
"человеком механическим", искусством и "антиискусством".
Корень кризиса культуры — в утрате искусством чувства "пейзажа" как
связующего звена между "рукой" художника и его интеллектом.
Критицизм новейших форм художнического самовыражения (экспрессионизм,
сюрреализм, театр Мейерхольда) не в состоянии соответствовать душе
"народного человека", приведенного в состояние варварства
индустриализмом XIX в. Специализация
искусства — следствие триумфа науки, или "тирана естества", к-рый
форсирует силы природы, добывая энергии и скорости, делающие нереальными
параметры данного человеку в его физических ощущениях мира. Уничтожение
пластического ("статического") образа, или "выпадение из
пейзажа", привело к торжеству в искусстве механических форм знания, неспособных
внушать эстетическое наслаждение. По мнению М., ситуация "механического
абсурда" парадоксальна. С позиций эстетизма "пост-Европу",
памятуя о классическом искусстве, следует ненавидеть; в плане же кипения
беспредметной интеллектуальности — отчасти приветствовать. Однако игра
интеллекта все же аморальна: перестройка культуры на механический лад
неизбежно убивает в творце "народное", ремесленническое начало, притупляет
эмоциональность. Оценивая перспективу развития искусства, М. не
пессимистичен: параллельно с "анти-искусством" как следствием индустриализма
существуют, пусть и в искаженном виде, пласты культуры, способные возродить
органические формы творчества. Кинематограф, детективы общедоступны и,
несмотря на значительную тривиальность и пошлость, являются вопреки всему
способом удовлетворения стихийной эстетической потребности народа. Подобно Г.
К. Честертону (эссе "В защиту детективной литературы", 1901), М.
склонен видеть в массовой культуре (кинематографе) проявление тяги к морализму
и "порядку", а также протест против автоматизма и "хаоса"
цивилизации, к-рые внушает элитарное искусство. Соч.: Образы Италии. М., 1994;
Искусство и народ //Литература русского зарубежья: Антология. М., 1990. Т. 1,
кн. 1. С. 377—390. Ли.: Зайцев Б. Далекое.
Вашингтон, 1965. С. 89—99; Из истории сотрудничества П. П. Муратова с
издательством К. Ф. Некрасова (Публ. И. В. Вагановой) //Лица. М.; Спб., 1993.
Вып. 3. С. 155—265. |
|
Мэмфорд
Льюис |
МЭМФОРД
(Mumford) Льюис (1895-1990) - американский философ и социолог. Представитель
негативного технологического детерминизма. В своих многочисленных работах по социальным
проблемам техники, урбанизации, истории и теории искусства, архитектуры, морали,
религии, культуры в целом (основные сочинения: "История утопий",
1922; "Техника и цивилизация", 1934; "Искусство и техника",
1952; "Превращения человека", 1956; "Город в истории",
1966; "Миф о машине", 1967-1970; "Интерпретации и
прогнозы", 1973 и др.) М. выступает против чрезмерной технизации общества,
приводящей к порабощению человека техникой. Отвергает, как неверную, точку
зрения, которая придает центральное место и направляющую функцию в человеческом
развитии орудиям труда. Не меньшую, а гораздо большую роль в развитии
человека и общества, считает М., играют статические компоненты техники, своеобразные
контейнеры различных типов, начиная от хижин, корзин и ловушек и вплоть до
гигантских химических реторт, атомных реакторов, каналов и городов. Еще более
важное значение М. придает происходящим в процессе развития общества
видоизменениям лингвистических и иных символов, различным культурным формам,
переменам в социальной организации и эстетическим замыслам, их художественным
воплощениям. Во взаимодействии орудий труда и культуры, представляющей собой
совокупность символических форм, производство все новых и новых символов обгоняет
производство орудий труда, способствуя развитию более ярко выраженных
технических способностей, а потому играет более важную роль, чем утилитарное
использование орудий труда. В работе "Техника и цивилизация" М. подчеркивал,
что техника своим развитием обязана мифу, игре, фантазии, различным формам
ритуала, песни, танца, занимающим в жизни человеческих сообществ (от примитивных
до самых высокоразвитых) более важное место, чем утилитарный ручной или
оснащенный техникой труд. С его точки зрения, контроль над психосоциальной
средой на основе выработки общей символической культуры в развитии общества
был более существенным, значительно предшествовал и опережал производимый при
помощи орудийной техники контроль человека над внешней средой. При таком
подходе приоритетное значение придается возникновению языка как коллективного
продукта и средства умственной концентрации древнего человека. Ибо только
тогда, когда знание и опыт могли быть накоплены в символических формах и передаваться
при помощи произнесенного слова от поколения к поколению, утверждал М., стало
возможным сохранять каждое новое культурное приобретение от разрушения течением
времени или с исчезновением предшествующего поколению. М. утверждал, что
человек является существом, главным образом "использующим ум",
производящим символы, что и соответствует определению homo sapiens, основой
развития которого с самого начала было создание важных типов символического
выражения, а не более эффективных орудий труда. Однако технократическое
представление о человеке как производителе орудий и их использователе привело,
в конце концов, считает М., к тому, что инициатива и главная роль от работника,
который управлял машиной, перешла к машине, управляющей работником. Эта антигуманная
тенденция использования техники находит свое концентрированное воплощение, по
мнению М., в бездушной и безличной Мегамашине, т.е. предельно рационализированной,
технократической социальной организации, построенной на жестком принципе
единоначалия. (См. Мегамашина.) |
|
Мэн Де
Биран Франсуа Пьер |
МЭН ДЕ БИРАН (Maine de
Biran) Франсуа Пьер (род. 29 нояб. 1766, Бержерак – ум. 16
июля 1824, Париж) франц. философ. Отправляясь от Локка и Кондильяка, он
пришел к психологии самонаблюдения – несмотря на непостижимую метафизическую
природу души, в своих проявлениях она все же доступна самонаблюдению, – а
закончил христ.-мистической метафизикой всеобщей любви. Осн. произв. – «Essai sur les fondements de la psychologies, 1813-1822. |
|
Мэн-Цзы |
МЭН-ЦЗЫ (лат. Mencius), Мэн Кэ, Мэн
Цзы-юй (ок. 372-289 до н.э.) – кит. поэт-философ; ученик и последователь Конфуция. Уроженец царства Цзоу (впоследствии область царства Лу, ныне —
Юго-Вост. часть уезда Цзоусянь провинции Шань-дун). Происходил из рода крупного сановника;
получил хорошее образование; много странствовал, посетив царства Ци, Сун,
Мэн, Вэй, Лян и др., где проповедовал свое учение. Не получив признания у
правителей, М.-ц. вернулся в царство Лу, где занялся педагогической
деятельностью. Его беседы с учениками легли в основу письменного памятника
«Мэн-цзы» (4—3 вв. до н.э.). Идеи М.-ц. явились развитием этико-политического
учения Конфуция и составили основу конфуцианской концепции политической
организации общества. Центральная идея политических взглядов
М.-ц. — «человеколюбивое правление» (жэнь чжэн), имевшее несколько аспектов,
в т.ч. 1) разделение всех жителей Поднебесной на «благородных мужей»
(цзюньцзы), т.е. «тех, кто управляет людьми», и «простолюдинов» (шу минь) —
«тех, кем управляют»: «Те, кто напрягают свой ум, управляют людьми; те, кто
напрягают свои мускулы, управляются [другими]»; 2) обеспечение зажиточной
жизни народу (тезис «править, заботясь о народе»), поскольку, согласно М.-ц.,
«народ является главным [в Поднебесной], за ним следуют духи Земли и зерна, а
государь уступает им по значимости». М.-ц. считал, что такой политикой
правитель может «завладеть сердцем народа», «подчинить его себе» и в конечном
итоге «овладеть Поднебесной». Обеспечение зажиточной жизни народу М.-ц.
связывал с наделением его «постоянным занятием и имуществом» — это приведет к
утверждению в народе добродетели. Конкретным шагом в осуществлении этой
политики М.-ц. считал возрождение системы «колодезных полей», при которой
крестьяне обязаны были сначала обработать «общее поле» («поле князя»), а
затем уже — собственные наделы, с которых следовало платить налог в размере
одной десятой урожая. М.-ц. выступал за создание системы школ
и домов призрения для престарелых как средства нравственного воспитания людей
и утверждения согласия между верхами и низами. Суть этико-философского учения М.-ц.
сводится к положению об изначально доброй природе человека, которой присущи
«четыре нравственных начала» (сы дэ): человеколюбие, чувство долга,
стремление соблюдать ритуал и разум/мудрость. Человек, по М.-ц., наделен
«врожденными знаниями» (лян чжи), чем объясняется его способность «познать
Небо и его веления», добиваясь «слияния воедино Неба и человека». Небо в учении М.-ц. выступало как высшая
нравственная сила, верховное одухотворенное начало всех дел в Поднебесной.
«Небо» олицетворяло собой нравственное совершенство и в то же время —
«искренность», «истинность» (чэн). М.-ц. первым из конфуцианских мыслителей
поставил вопрос о соотношении чувственного и разумного начал в процессе
познания. Важнейшим средством постижения мира философ считал «сердце» (синь,
«разум») и второстепенным — органы чувств. Только «сердце» размышляет о
«принципах» (ли) и постигает их. В том же рационалистическом духе
оценивал М.-ц. роль энергетического начала в человеке (ци) и его «воли»
(чжи): «Воля руководит ци, а ци наполняет тело. Воля — главное, а ци —
второстепенное». Учение М.-ц. стало впоследствии
неотъемлемой частью конфуцианской ортодоксии, а памятник «Мэн-цзы» вошел в 12
в. в каноническое конфуцианское «Четверокнижие» («Сы шу»). Попов П.С. Китайский философ Мэн-шы.
СПб., 1904; Ян Юнго. История древнекитайской идеологии / Пер. с кит. М.,
1957; Быков Ф.С. Зарождение политической и философской мысли в Китае. М.,
1966; Древнекитайская философия. Собр. текстов. М., 1972. Т. 1. |
|
Мюллер
Адам Генрих |
МЮЛЛЕР (Mьller) Адам Генрих (род. 30 июня 1779, Берлин – ум. 17 янв.
1829, Вена) – нем. писатель. Известен как противник «замкнутого торгового
государства» Фихте и защитник
органического, католико-универсалистского понимания государства. Для него
государство – «всеобщность всей жизни». Учение Мюллера было воспринято О. Шпанном. Осн. произв. – «Die Elemente der Staatskunst», 3 Bde., 1809. |
|
Мюллер
Георг Элиас |
МЮЛЛЕР (Mьller) Георг Элиас (род. 20 июля 1850, Гримма, Саксония –
ум. 28 дек. 1934, Гёттинген) – нем. философ и психолог; с 1881 – профессор;
один из основателей эмпирико-экспериментальной психологии (в особенности
психологии памяти). Будучи вначале сторонником ассоциативной психологии, он
все чаще и чаще обращался впоследствии к проблеме комплексов и гештальта.
Осн. произв.: «Zur Grundlegung der
Psychophysik», 1878; «Zur Analyse der
Gedдchtnistдtigkeit und des Vorstellungsverlaufens», 3 Bde., 1911 – 1917; «Komplextheorie
und Gestalttheorie», 1923; «AbriЯ der
Psychologie», 1924; «Beitrдge zur
Psychophysik der Farbenempfindungen», 1934. |
|
Мюллер
Иоганнес Петер |
МЮЛЛЕР (Mьller) Иоганнес Петер (род. 14 июля 1801, Кобленц – ум. 28
февр. 1858, Берлин) – нем. анатом, физиолог и натурфилософ; профессор – с
1833. Вначале, как ученый, был близок к романтической натурфилософии, позднее
стал одним из основателей точной физиологии и физиологической психологии, в
области которой стал известен особенно благодаря учению о специфической энергии органов чувств, однако
свою методику частных наук он всегда подвергал философско-критической
переоценке. Осн. работой Мюллера в области философии и психологии является «Handbuch der Physiologie des Menschen» (2 Bde., 1833-1840). |
|
Мюллер-Фрейенфельс
Рихард |
МЮЛЛЕР-ФРЕЙЕНФЕЛЬС (MьllerFreienfels) Рихард (род.
7 авг. 1882, БадЭмс – ум. 12 дек. 1949, Вейльбург) нем. психолог и философ; с
1933 по 1938 – профессор в Высшей экономической школе, с 1946 по 1948 – в
ун-те в Берлине; занимался поисками иррациональных сил и образов в мире, в
науке и философии, защищал собственную философию жизни («психологию жизни»).
Осн. произв.: «Lebenspsychologie», 2 Bde., 1916; «Philosophie der
Individualitдt», 1921; «Psychologie der Wissenschaft», 1936; «Menschenkenntnis und
Menschenbehandlung», 1949; «Der Mensch und das Universum», 1949. |
|
Мюнстерберг
Гуго |
МЮНСТЕРБЕРГ (Mьnsterberg) Гуго (род. l июня 1863, Данциг – ум. 16 дек. 1916, Кембридж,
Массачусетс) – нем. психолог, профессор Гарвардского ун-та (с 1892); был
близок к взглядам нем. югозападной школы, защищал философию, основанную на
идеях Фихте и включающую результаты
экспериментальной психологии. Мюнстерберг является основателем психотехники. Осн. произв.: «Science and idealism», 1907; «Philosophie
der Werte», 1908; «Grundzьge der
Psychologie», 1910; «Psychologie und
Wirtschaftsleben», 1912; «Grundzьge der
Psychotechnik», 1914. |
|
Мюнцер
Томас |
МЮНЦЕР (Munzer) Томас (ок. 1490-1525) —
протестантский теолог, идеолог народной реформации в Германии, предводитель
крестьян и городской бедноты в Крестьянской войне (1524—1525). Приобрел
известность как лютеранский священник в Цвиккау. Растущее сочувствие
угнетенным крестьянам и городскому плебсу, ненависть к угнетателям —
«развратителям мира», предавшим «Божественный порядок», привело его к разрыву
с умеренной позицией М. Лютера и призыву к народной революции. Обоснование
своих взглядов он находил в средневековых мистических доктринах, прежде всего
в идеях Иоахима Флорского, предвещавшего наступление царства Духа, порвавшего
с «игом» книжной учености, у И. Экхарта и И. Таулера, подчеркивавших
деятельную природу христианина, в учении чешских таборитов о решающей роли
«ревнителей дела Божьего» в свержении мирового зла. М. отвергает проповедуемый Лютером
дуализм духовной и светской жизни: Евангелие должно стать законом не только
религиозной, но и социально-политической жизни; христианин подчиняется только
высшей Божественной воле и никогда не должен мириться с произволом и
«безбожными» действиями светских правителей. Его долг — добиваться построения
Царства Божия на земле и прежде всего превращения равенства людей перед Богом
в равенство на земле. «Мертвой букве» церковного учения,
исказившего Божественный разум, М. противопоставляет непосредственную «веру
сердца», «обновленный разум», постигающий высшую Божественную мудрость. Ее
фундамент не могут составить ни схоластические умствования, ни проповеди
«фарисеев и епископов и книжников», а только «основа души», способная познать
Бога таким, каков он есть. Для этого, по М., необходимо укрепление веры,
обретаемой в процессе общения с Богом и противостоящей вере «книжной»,
«пергаментной». Такое общение означает сближение человеческой и Божественной
веры, когда человек мыслит и действует в соответствии с Божественным
предначертанием. Т.о., подчинение человеческого разума Божественной воле — не
унижение разума, а напротив, его преобразование посредством «истинной веры».
Приписывание человеческому разуму статуса божественного означает у М.
отстаивание его суверенности и независимости от церковного, «безбожного»
разума, раскрытие «совершенного разума» в человеке. Историческая заслуга М.
состояла в том, что на языке профетической эсхатологической доктрины он
страстно и талантливо выразил мироощущение «ремесленников и пахарей», открыто
выступавших против феодального гнета. Циммерман В. История Крестьянской войны
в Германии. М., 1937; Энгельс Ф. Крестьянская война в Германии // Маркс К.,
Энгельс Ф. Соч. Т. 7; Смирин М.М. Народная реформация Томаса Мюнцера и
Великая крестьянская война в Германии. М., 1955; Штекли А.Э. Томас Мюнцер.
М., 1961; Лазарев В.В. Становление философского сознания Нового времени. М.,
1987. |
email: KarimovI@rambler.ru
Адрес: Россия, 450071, г.Уфа, почтовый ящик 21